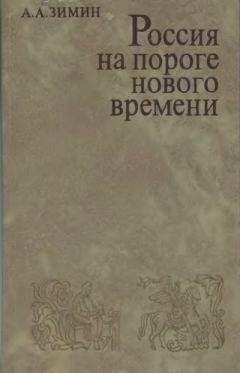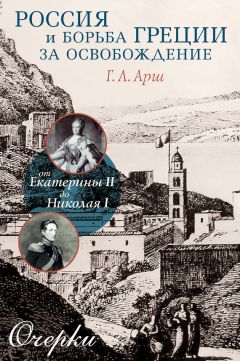Н Кривошеина - Четыре трети нашей жизни
Сам же директор "Рено", бывший узник, принимал два раза в неделю родственников вывезенных с ним вместе заключенных; ему показывали фотографии. Но он мало что мог рассказать. От этого визита у меня остался горький привкус.
В те же дни я получила через неведомых мне железнодорожников две записки от Игоря Александровича, которые он сумел выбросить через щель вагона, в котором его везли в Германию. Железнодорожники писали, что не решались переслать эти записочки пока немецкая армия окончательно не покинула Францию. Я им, конечно, ответила сразу и поблагодарила -- в ту пору подобрать записку на путях тоже было рискованно.
Мы жили с Никитой очень одиноко, питались плохо и скупо. Мне предлагали работу в большом еврейском банке Лазар; передали, что никогда не забудут, как Игорь Александрович помогал евреям, но de Fontenay не советовал начинать работать до окончания войны, на случай, если бы понадобилось хлопотать пенсию. Иногда я ездила в Дурдан, в 50 км от Парижа, на дурданскую мельницу, где жили Угримовы. Изредка вечером заходил ко мне посидеть наш друг Петр Андреевич Бобринский -- всегда ласковый, с мягким голосом, тихими манерами, один из самых очаровательных эмигрантов нашего поколения. Изредка заходил и Яков Борисович Рабинович, тоже участник Сопротивления -- всегда дружественный, всегда готовый помочь, со смешной фамилией из тысячи еврейских анекдотов, верный друг. В 1917 г. он был призван, служил юнкером и среди других участвовал 25 октября в защите Зимнего Дворца. А я в тот вечер ехала в трамвае через Дворцовый Мост по дороге домой из Народного Дома, и какую-то минуту в этот вечер мы, не будучи знакомы, находились почти что рядом... в истории.
Вообще же народу заходило мало. Никита к весне начал болеть, я держалась, старалась не поддаваться темным мыслям. Но вот кто непрестанно заходил и занимал меня всякими рассказами, так это все тот же Григорий Николаевич Товстолес (о его дальнейшей судьбе будет много позже, если удастся дойти до этого момента, тоже страшного!). Никаких вестей из Бухенвальда, конечно, не было. Я побывала всюду : и в Красном Кресте, и в Норвежском консульстве, и в Шведском -- никто про Игоря Александровича ничего сказать не мог.
В течение зимы 1944-45 г. я получила несколько продуктовых посылок из Америки, от Толстовского фонда. В начале декабря мне прислали извещение, что мне есть посылка в каком-то Комитете. Я была поражена -- ни с кем в Америке я за всю войну не переписывалась и не могла понять, от кого бы это могло быть. Мы с Никитой поехали, там было нечто вроде бюро, где были русские, но все незнакомые. Молодая дама дала мне пакет; не помню, было ли на нем что-нибудь -написано, -- кажется, у нее просто был список имен. В посылке был американский солдатский паек: коробки разных консервов, сгущеное молоко, шоколад и пакетик масла. Никита в один присест съел сгущеное молоко, шоколад тоже.
Возвращение Игоря Александровича из Бухенвальда
Только 13-го мая 1945 г. я узнала, что Игорь Александрович жив и освобожден из лагеря Дахау, в Баварии, куда их всех из подземного лагеря Лаура (отделения Бухенвальда) вывезли за несколько часов до того, как американская армия освободила его. Сперва получила записку, вложенную в чрезвычайно любезное письмо, через Aumфnier gйnйral, ездившего из Парижа для посещения освобожденных лагерей в Германии. Американцы плохо разбирались, кого они, собственно, освободили, а полосатые пижамы, напоминавшие им американскую каторгу для самых тяжелых преступников, их тоже сбивали с толку. А потому они хоть, конечно заключенных не убивали, но и никуда никого не выпустили и продолжали держать всех в Аллахе (отделение Дахау) под стражей в бараках. Они начали всех кормить и даже без разбора, так чтс в первый же день многие от этого излишнего питания умерли.
Но... всему конец, Aumфnier Gйnйral[*] вернулся в Париж, сделал доклад о том, что видел. В Дахау вскоре приехал генерал Леклер. вызвал на плац всех французов (Игорь Александрович числился в лагере французом и носил букву "Ф" на красном треугольнике) Священник отслужил мессу, во время которой все причащались, и тогда генерал Леклер обратился к этим бывшим заключенным с речью и обещал, что скоро их "освободит" отсюда.
Игорь Александрович как один из очень тяжело больных попал в первый поезд, шедший во Францию, но сперва пробыл в "приемной инстанции" на озере Констанца целых две недели. Там уж были врачи, всякие осмотры и помощь, и вот наконец полная свобода: отдельная комната и кровать с простынями. 31-го мая я получила телеграмму от французского главнокомандующего генерала де Латтр-де-Тассиньи, извещавшую меня о прибытии Игоря Александровича в Париж на Северный вокзал. На следующий день по радио объявили, что встречать репатриированных из Германии следует в отеле "Лютеция", куда их будут привозить с вокзала. Кирилл туда и поехал, ждал долго и наконец около шести вечера встретился с братом. Какие-то скауты, люди весьма юные, но и весьма решительные, останавливали частные машины - а таковых к тому времени было уже немало -- сажали туда освобожденных людей и их родных, и те везли их по домам. Так приехал и Игорь Александрович вместе с Кириллом около семи вечера. У нашего подъезда стояло человек 30 соседей. А Никита весь этот день с 10 утра просидел на корточках на углу нашей улицы Жан Гужон и площади Франсуа I. был в полубезумном состоянии, ничего не ел и отказался вернуться домой. Всем жителям нашего мини-квартала он сообщал, что ждем папу и что ген. де Латтр маме прислал телеграмму... Я изредка выходила на улицу за ним последить, но возвращаться домой не заставляла -- действительно, это ведь был особенный день! Последнее время, в частности, всю весну, он болел, был очень нервен и, видимо, вполне понял, где его отец, хоть я и избегала с ним об этом говорить.
Игорь Александрович тяжело болел целых шесть недель -плевритом, а потом туберкулезом в скрытой форме. Его лечил молодой врач Алеша Краевич, который все сделал, чтобы Игоря Александровича спасти. К нам на дом приезжали все специалисты привозили рентгеновскую аппаратуру для снимка легких, несколько раз приезжал самый большой специалист по легочным болезням Рауль Курильский. А я? Я объявила всем знакомым, что настало время мне помочь и что теперь я буду принимать всякие продукты, что бы ни принесли. Очень скоро люди откликнулись: знакомые, незнакомые, соседи и жители нашего квартала. Часто, открывая дверь, я находила на площадке корзинку - были тут фрукты, овощи, масло, молоко, даже рыба, которой тогда было мало. Приносили и просто пачку сахара или макарон. Так что не надо все же считать, что все французы "сантимщики" - я ведь никогда не узнала, от кого были эти дары. Я почти без перерыва готовила и как главное лечение давала Игорю Александровичу поесть в любой час, иногда до десяти раз за сутки. Краевич считал, что главное -питание, и пусть Игорь Александрович ест, сколько хочет; главное -поддерживать организм не переставая. Температура у него была все время высокая: от 39° до 41° -- и так несколько недель.
Приходили родные и знакомые мне помогать -- ведь я одна не могла даже перестелить кровать. По утрам я около 7 ч. ложилась на час, не то вздремнуть, не то просто отдохнуть, принимала горячую ванну, переодевалась и... снова начинала готовить. А днем приходили посетители, немного, не надолго -- но ведь надо было человеку все выговорить.
В июле Игоря Александровича вывезли в дом отдыха недалеко от Фонтенбло, устроенный Красным Крестом, и он начал там вставать, выходить в сад и по несколько раз в день получал, помимо завтрака, обеда и ужина, бутерброды с толстым слоем масла; наконец, в августе мы, по совету проф. Рауля Курильского, уехали в горы в Савойю, недалеко от Швейцарской границы и попали (через знакомых, конечно) в чудный старинный замок, стоявший на высоте пятисот метров, с дивным видом на зеленую долину. Владельцы замка были русские, семья Штранге. Там было уютно, красиво, все было вкусно, -комнаты у нас были одна 45 кв. метров, другая -- 25 м., подоконники шириной в метр, все за нами ухаживали, старались, чтобы нам было хорошо, весело, беззаботно... Погода стояла райская, и нам показалось, что мы и правда в раю.
Постепенно жизнь в нашем доме вошла в колею, или казалось, что так. А ведь и в самом деле -- война, крах Европы, ужасы нацистских лагерей, которые в нашем доме были особенно понятны, -- все это затмило нам прелесть и очарование жизни во Франции. За четыре года оккупации у нас на глазах творилось немало гнуснейших вещей; никогда не надо забывать, что мы под конец войны боялись "петэновской милиции" не меньше, нежели гестаповцев в фуражках с черными околышами.
Русская эмиграция вышла из этого тяжелого испытания расколотая и не без пятен. Некоторые соблазнились легкой наживой к поставках немцам всего того, чем Франция была богата. Конечно были и французы, которые занимались тем же, но нам от этого к легче. Казалось, что у эмигрантов, нашедших приют во Франции (а их здесь было особенно много, и "чудили" они немало и, надо сказать, пользовались полной свободой: издавали бесконечное количество газет, журналов и при этом ссорились, клеветали друг на друга, не стесняясь), должно было обязательно сказаться чувств приличия -- ведь они жили в чужом доме.