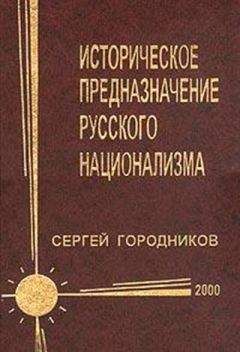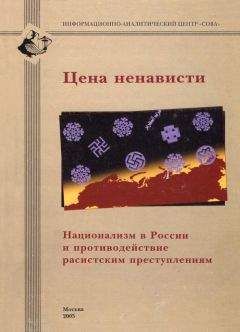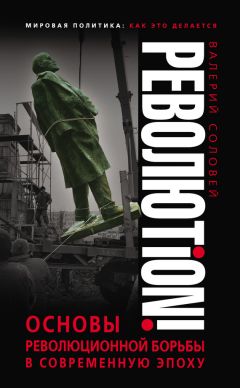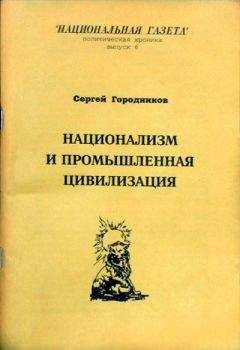Валерий Соловей - Несостоявшаяся революция
Что же удивляться впечатляющей антисемитской динамике русского общества в 20-е — начале 50-х годов прошлого века, когда даже бывшие юдофилы из числа интеллигентов нередко превращались в махровых антисемитов? Если евреи отождествляли русских с угнетавшим их царским режимом, то у русских было ничуть не меньше оснований возлагать на евреев ответственность за антирусскую политику коммунистической власти. Тем более что в сравнении с жестокостью большевистской власти царизм выглядел просто вегетарианским. Впрочем, несмотря на то, что в первые двадцать — тридцать лет советской эпохи антисемитизм приобрел несравненно более массовый (хотя и латентный) характер, чем при старом режиме, евреи так и не стали главным врагом русских, объектом всепоглощающей русской ненависти.
Тем более невозможно это было в начале XX в. Если у русских и существовал объединяющий их враг, то им выступал Старый порядок, а не евреи. Лояльность (к началу XX в. уже основательно подточенная) значительной части простонародья к самодержцу не распространялась на имперские институты и бюрократию, социальные и экономические практики империи. Для России вообще исторически характерен пиетет по отношению к суверену при скептическом и негативном отношении ко всем промежуточным инстанциям между ним и народом. Известный из школьных учебников истории советской эпохи тезис о «царистских иллюзиях» русского крестьянства, в общем, справедлив. Как справедлив и парный ему тезис, описывающий специфику массового сознания следующим образом: «Царь хороший, а бояре плохие».
Эти два стереотипа сохранили свою силу вплоть до сегодняшнего дня, успешно пройдя сквозь исторические эпохи. Отечественную государственную конструкцию можно уподобить пирамиде, стоящей не на основании, а на вершине. Тем самым, если царь-суверен становился в перспективе народного мнения «плохим», что и произошло в годы первой мировой войны с Николаем II (можно привести хронологически более близкую историческую аналогию: массовое разочарование советского общества в Михаиле Горбачеве, начиная с 1989 г.), то делегитимации подвергалось государство в целом.
Этнический фактор действительно сыграл решающую роль в революционных потрясениях начала XX в., однако, вопреки сумеречным конспирологическим фантазиям, то была не еврейская, а русская этничность. Именно «народ-богоносец» расправился с помазанником Божиим и отряхнул со своих ног прах Старого порядка.
Русское восстание против Империи
В нашем представлении фундаментальной причиной бифуркации начала XX в. послужило не социальное и политическое напряжение: современная историография, в общем, не склонна считать этот фактор решающим для крутого изменения исторической траектории страны — а социокультурное, экзистенциальное и этническое отчуждение между верхами и низами общества, обрушившее их бессознательное взаимодействие и придавшее объективно не столь уж серьезным конфликтам неразрешимый характер.
Революционная динамика начала XX в. фактически была национально-освободительной борьбой русского народа против чуждого ему
(в социальном, культурном и этническом смыслах) правящего слоя и угнетающей империи221. Эту глубинную психологическую подоплеку красной Смуты очень точно уловили евразийцы, назвавшие ее «подсознательным мятежом русских масс против доминирования европеизированного верхнего класса ренегатов»222. Симптоматично, что и в советском пропагандистском языке большевистская революция поначалу называлась именно «(Великой) русской революцией», вызывая неизбежные коннотации с русской этничностью. Это тем более примечательно, что коммунистическая политика, мягко говоря, не благоволила к народу, давшему имя революции. И лишь спустя десять — пятнадцать лет после самого события было канонизировано тщательно очищенное от всяких этнических коннотаций наименование — «Великая Октябрьская социалистическая революция».
Русский этнический бунт возглавила одна из наиболее вестер-низированных по своей номинальной доктрине политических партий — большевистская, для которой любая национальная проблематика была третьестепенна по отношению к социальной, члены которой гордились своим интернационализмом и доля нерусских в руководстве которой была одной из самых больших среди других общероссийских политических партий. Однако то была лишь внешняя сторона. В действительности именно большевики оказались наиболее созвучны — причем в значительной мере непроизвольно, спонтанно, а не вследствие сознательного и целенаправленного подстраивания — глубинной, внутренней музыке русского духа.
221 Подробнее об этническом и культурном отчуждении русского народа
от имперской элиты см. гл.З книги В. Д.Соловья «Кровь и почва русской
истории» (М., 2008).
222 Высказывание Н.С.Трубецкого цит. по: Уткин А. И. Запад и Россия:
История цивилизаций. Учебн. пособие. М., 2000. С. 324.
Во-первых, большевизм был результатом интеграции на русской почве рафинированного западного марксизма с автохтонной народнической традицией, вследствие чего возник новаторский синтез — «марксистский по начальному импульсу, но позаимствовавший у народников идею о революционности крестьянства, о руководящей роли небольшой группы интеллигентов и о "перепрыгивании" буржуазной стадии исторического развития для перехода непосредственно к социалистической революции... Разумно считать большевизм той формой революционного социализма, которая лучше всего приспособлена к российским условиям...»223. Большевизм был адаптирован к отечественной почве несравненно лучше любой другой заимствованной идеологии (например, кадетского либерализма).
Во-вторых, составлявшая мифологическое ядро марксизма мессианская идея избранничества пролетариата удачно корреспондировала с мощным и влиятельным религиозно-культурным мифом русского избранничества, русского мессианизма. Общая мифологическая матрица позволяла без труда транслировать марксистскую доктрину в толщу русского народа. Тем более что у него имелась собственная версия мессианского мифа — «Святая Русь», отличная от мессианизма верхов. В общем, социалистический мессианизм соединился с народным мессианизмом.
Хотя мифы мессианского избранничества исторически существовали у многих народов, порою (например, среди религиозных евреев и многочисленных фундаменталистских протестантских сект США) сохраняя силу и по сей день, русский случай начала XX в. выделяется тем, что обладавший огромной энергией, еще не выродившийся низовой, стихийный мессианизм русского народа срезонировал с кабинетными идеологическими формулами. Этот резонанс, в подлинном смысле слова разрушивший старый мир, можно было бы счесть всего лишь историческим совпадением, уникальной констелляцией обстоятельств (такое уж оно, русское счастье), но имелась еще одна причина гармоничного созвучия большевизма русскому духу.
В-третьих, аутентичная марксистская идея разрушения старого государства и вообще отрицания института государства, его замены самоуправлением трудящихся слишком удачно совпадала с радикальной русской крестьянской утопией «мужицкого царства». Уже двух таких совпадений было бы достаточно для вывода: тенденция, однако... Но эта тенденция массового сознания еще и выражала русский этнической архетип — тематизированность русской ментальности властью, государством, который большевики исключительно умело и эффективно, хотя, скорее, бессознательно и спонтанно, чем осознанно и целенаправленно, использовали сначала для разрушения «до основанья» старой власти, а «затем» для строительства новой — несравненно более сильной, чем разрушенная.
223 Хоскинг Джеффри. Россия: народ и империя (1552-1917). Смоленск, 2000. С. 378.
Большевики смогли оседлать «качели» русской истории — движение от покорности и обожествления государства к разрушительному беспощадному антигосударственному бунту и наоборот.
Сразу отметим, что эта полярность вызвана не врожденной «дефектностью» русской этнической субстанции, якобы лишенной демократических потенций (таковые как раз имелись) и «обрекающей» русских на диктатуру (история скорее опровергает, чем подтверждает идею обреченности тех или иных народов на определенное политическое устройство и тип ценностей), а фундаментальной логикой сосуществования империи и русского народа.
Так или иначе, большевистская революция может служить бесподобным примером умелого политического использования исторического ритма: поначалу, когда большевики шли к власти, они разжигали страсти, направляя русскую бунтарскую, анархическую стихию против актуального государства. Затем, когда сами стали властью, беспощадно ее обуздывали. Впрочем, общество, вволю вкусившее к тому времени кровавой вакханалии и разрухи, пришло к осознанию банальнейшей из истин: даже плохое государство лучше его отсутствия. Не большевики запустили эти «качели», но они оказались единственной политической силой, интуитивно уловившей их логику, что делает честь их интеллектуальным и волевым качествам, хотя не может не навлечь морального осуждения.