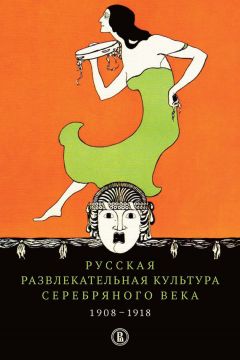Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
У меня уже являлись самые странные планы, но делу помог Барбарисик. Он был единственный из общества Кремневых, продолжавший кланяться со мною на улице. Он и подарил мне полученный им портрет.
Она! Нина — прежняя гордая Нина, с непонятными глазами. Затуманившийся образ вдруг воскрес в моей душе. Нина! Нина!
Я часами смотрел на фотографию и все более и более отдавался полному бездействию. Первые дни я еще пытался овладеть собой, заставлял себя работать, начал поэму на смерть Нины, но все эти усилия не приводили ни к чему. Я читал до изнеможения, но смысл прочитанного как-то ускользал от меня. Я рифмовал целыми днями; созвучия и размеры начинали наконец производить на меня ощущение прямо физической боли, — но все созданное было бледно или ничтожно[217]. Я бросал все, ложился на кровать и начинал думать о прошлом.
Впоследствии я оставил даже попытки работать. Пекарский перестал посещать меня. Других знакомых я встречал так, что они больше не возвращались. К ужасу моих родных, я проводил целые дни в своей комнате. Лениво вставал я утром, как бы исполняя обязанность, пил кофе и потом шел к себе мечтать. После обеда мама со слезами умоляла меня идти гулять; я отказывался от общества сестры, шел один в лес или поле, — и там опять являлась мне она — Нина! моя Нина! Вечер приходилось провести в кругу семьи, если же у нас кто бывал, я спешил распростить<ся>, я торопился забыться, надеясь увидать во сне Нину.
Иногда меня охватывало непобедимое желание беседовать с ней, и я — слишком хорошо знавший тайны спиритизма — брал карандаш, бумагу, просиживал с ними целые часы и потом тщательно старался прочитать слова в тех случайных чертах, которые вывела моя усталая рука.
Бывали минуты, когда мною овладевало такое отчаяние, что я как безумный искал хоть минуты утешения. Тогда я бросался на колени перед образом, молился Ему, издавна забытому мною. На уста приходили слова молитвы, глаза затуманивали слезы. На другой день я бывал недоволен собой. Эти часы давали мне облегчение.
Глава двенадцатая
Настала осень.
Я уже настолько свыкся со своей жизнью, что и не искал лучшей. Я похудел, оброс бородой, стал нервным; малейшая неожиданность меня пугала. [Мне было как-то странным общество людей. Неудивительно, что я встретил сначала очень неприязненно приглашение участвовать в каком-то литературном вечере, устраиваемом дачниками.] Но потом, решившись прочесть свою поэму о Нине, согласился.
Надо было спешить, и я засел за работу. В два дня поэма была окончена. Затем начались считки и репетиции.
Сперва я дичился общества, но две или три удачи в споре и перестрелке остротами вернули мне мою самоуверенность. Как-то раз я поймал восхищенный взор белокуренькой Лиды, и это придало мне смелости начать с ней один из тех оригинальных разговоров, которыми я так умею очаровывать. Но в тот же вечер я наткнулся в темной аллее на Лиду, которую целовал гимназист Бородкин. Я вернулся домой недовольным.
В следующий раз просто из упрямства я начал борьбу с Бородкиным. Он был красивее меня, но я был опытнее. Через неделю Бородкин был уже смешным для Лиды, а мы с ней целовались и говорили друг другу «ты».
На литературном вечере я имел громадный успех, хотя, конечно, это мало меня интересовало. Тогда же Лида поклялась мне в вечной любви, а я, играя своей честностью, сказал ей, что она мне «очень нравится».
— Я не могу ответить «люблю»! Такое слово не должно раздаваться попусту.
После литерат<урного> вечера мы продолжали видеться. В Москве я тоже добился свиданий — сначала на бульварах, потом, когда стало холодно, в пассажах, в кофейной и, наконец, в гостинице. Такая игра не доводит до добра, и к октябрю Лида была моей[218].
Лида не отличалась ни особенной красотой, ни развитием. Мне хотелось просто победы, чтоб увериться, сохранилось ли мое могущество после пролетевшей грозы. Несколько месяцев мы жили прекрасно, когда же Лида почувствовала себя беременной, вышла некрасивая суета. Я до сих пор не могу простить себе, каким трусом я вел себя. Лида хорошо поняла меня и сумела отплатить как следует. Она не стала плакать или упрекать меня.
— Прошу, чтобы я никогда больше не слыхала об вас.
Моя Лида! Моя маленькая, белокурая Лида! Я никогда не ожидал, чтобы она могла произнести это с таким достоинством, чтобы она могла уйти с таким величественным видом.
Я не писал ей ничего, слышал стороною, что они уехали из Москвы, но не разузнавал подробнее, так как был занят. Я издавал второй сборник своих символических стихотворений и работал над диссертацией. Появились новые знакомства и новые интересы.
Появился опять и старый друг Пекарский. Он был опять безумно влюблен, и я поспешил помочь его <так!>. Как друг я начал ухаживать за сестрой его предмета, за скучной, высокой Катей[219]. Опять начались старые обманы, полупризнания, пожимания ноги под столом и первые поцелуи.
Месяца полтора продолжался мой роман с Катей. Но тут ее сестра внезапно изменила моему другу и вышла замуж за богатого купчика. Пекарский с отчаяньем в сердце должен был оставить их дом. Недолго думая, я сделал то же и с головой ушел в свою диссертацию, предоставив своей сестре утешать моего друга. Тут случайно я получил маленькое наследство, позволившее мне некоторую роскошь. Я решился на лето и осень уехать за границу, во Францию, в Италию. О дивные страны искусства! Цезарь и Рафаэль! Овидий и Данте!
Перед отъездом я заехал как-то к знакомым в Царицыно. Было часов семь вечера, когда я возвращался на станцию через парк. Роскошные тенистые аллеи, горделивые развалины, когда-то прелестный Миловид с его теперешней отвратительной торговлей пряниками, — случайно все это мне приходилось видеть в первый раз. Я наслаждался и бродил под зеленью лип. Весна! опять весна, как в те дни, когда умерла Нина.
На желтой скамейке я заметил две женские тени. Подошел ближе, дерзко оглядываю — Катя и ее сестра.
— Альвиан Алекс<андрович>!
— Я. Здравствуйте. Вы здесь на даче?
Бросив этот вопрос и услыхав утвердительный ответ, я уже хочу проскользнуть дальше, но Катя останавливает меня.
— Альв<иан> Алек<сандрович>, нам надо с вами поговорить.
Делать нечего, подаю ей руку, и мы идем.
— Скажите, неужели вы считали меня игрушкой?
(О, как это старо!)
— Конечно, вы не делали мне предложения, но ведь я вправе была думать, что вы любите меня, когда позволяла обнимать себя. Я даже не понимаю, какое удовольствие вы находили в том, чтобы смеяться надо мной?
— Катя…
Липы шумят, пруд сверкает. Откуда-то долетает смех влюбленных — не с лодки ли?
— Катя…
— Впрочем, вы и не могли любить меня… вы любите только себя и плачете только о себе. И напрасно воображаете вы, что счастливее других, что вы играете людьми… Вы просто один из несчастных… Мне жаль вас.
Молчание. Голос Кати начинает дрожать.
— Я слышала, вы уезжаете… Ну что ж! разве я сержусь!., но… но почему ни одного слова! почему хоть не написали мне, что больше вы не хотите меня видеть… Зачем… так… сразу…
Ее рука сжимает мою. Она плачет, опускаясь на скамейку. В душе моей ни злобы, ни сострадания. Я освобождаю свою руку, бросаю ее одну, плачущую в темной аллее, и опять иду под тенью вечера и лип.
Откуда-то долетает смех влюбленных — не с лодки ли? впрочем, какое мне дело.
Я покидаю все окружающее меня. Прощай, моя прошлая жизнь и дорогие тени счастья.
Завтра паровоз умчит меня из этой знакомой Москвы, умчит к новой жизни и новой любви.
Amici mei, addio.
3 ноября <18>94 г.Университетские годы Валерия Брюсова: студенчество (1893–1899)[*]
В описях архива Московского университета, хранящегося в Центральном историческом архиве г. Москвы (ф. 418), несколько студенческих дел каждого года зачисления помечены небольшим штемпелем «О.ц.», то есть «особо ценные». Это дела известных ученых, писателей, деятелей искусства, государственных деятелей, кончавших университет. Перечислять их имена — дело довольно бесполезное, потому что они исчисляются сотнями, если не тысячами. Но исследователю, обращающемуся к архиву, нужно отдавать себе отчет, что само студенческое дело не позволяет составить сколько-нибудь полноценное представление о личности человека, на которого оно заведено, так как ограничивается формальными критериями[221]. К тому же сохранились дела не на всех студентов. По какой причине — нам неведомо, но студенческого дела Валерия Брюсова в архиве нет (кстати сказать, нет там и дела Андрея Белого, от которого, как помечено в описи, осталась лишь обложка). Но даже если предположить, что оно существует, все равно далеко не все аспекты университетской жизни поэта и крупнейшего литературного деятеля начала XX века могли бы быть там отражены.