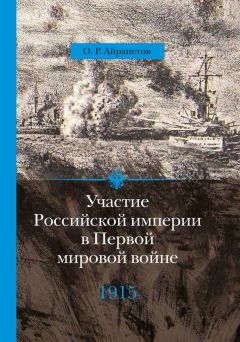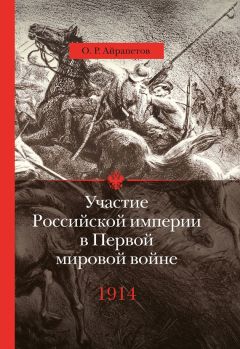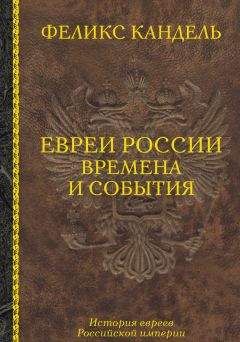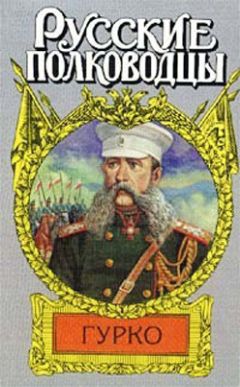Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
Впервые опубликованные в «Сыне Отечества», в дальнейшем «смехотворные картинки» воспроизводились в виде «летучих листков» и расходились по стране значительными тиражами: в хорошей раскраске по цене 1,5–2 рубля за лист, в плохой – гораздо дешевле[452]. В 1813 г. «Санкт-Петербургские ведомости» регулярно помещали объявления об их продаже в книжных лавках И. Глазунова, И. Заикина, Я. Сленина. «Коллекция карикатур» из 25 раскрашенных гравюр стоила 37 руб. 50 коп., а отдельными листами рисунки можно было приобрести за 1 руб. 50 коп.[453]
В силу своей массовости и дешевизны карикатуры стали достоянием широких слоев зрителей. Современники свидетельствовали, что в послевоенные годы они висели на стенах крестьянских домов, их можно было увидеть в трактирах и на постоялых дворах, а в городах они выставлялись в витринах магазинов, вывешивались на заборах. Одновременно с этим карикатуры декорировали дворянские особняки. Так, захваченный в плен французский врач де ла Флиз вспоминал, что в 1813 г. видел коллекцию сатирических гравюр в имении помещика Мгинского уезда[454].
Констатируя успешность опыта редакции «Сына Отечества», но опасаясь в условиях изменившейся политической ситуации говорить об этом открыто, И. Снегирев писал в 1822 г.: «Кто знает, может быть, сии картинки и описания, утешая и научая их (народ. – Е. В.), удерживают от пороков и преступлений! Может быть, оне также служили средством к распространению любви отечественной и полезных мнений, к возбуждению мужества и храбрости в народе, который тогда понимает, когда говорят ему его же языком, близким к сердцу (курсив мой. – Е. В.)»[455]. Заявить об этом было легко. Но как заговорить на «народном языке» писателю, взращенному в категориях западной культуры? Каков этот язык и где ему учиться? Карикатура двенадцатого года позволяет реконструировать опыт такого обучения.
Другой вопрос – что вообще хотела сказать редакция «Сына Отечества» своим адресатам? А.И. Тургенев объяснил это П.А. Вяземскому в письме от 27 октября 1812 г.: «Назначение сего журнала – помещать все, что может ободрить дух народа и познакомить его с самим собой»[456]. Из этого признания следует, что членам редакции предстояло понять самим, что такое народ, и рассказать ему о его свойствах. Практически же это значило, что им следовало решить, что есть «русский дух (душа, характер)» (то есть найти основания для солидарности), и побудить соотечественников проявлять эти качества.
Собственно, только их согласие на это могло спровоцировать групповую мобилизацию. Соответственно, чем шире была зрительская и читательская аудитория «Сына Отечества», тем более масштабной могла стать солидарность. В этой связи сотрудничавшим с журналом художникам предстояло объяснить неграмотному единоземцу, что происходит и какую роль в этом предстоит сыграть ему. Карикатуры примеряли воинский подвиг к простым обывателям и делали из них «русских героев».
Версии войны
Сегодня эпопея 1812 г. имеет устойчивую интерпретацию как патриотическая, отечественная война, которая породила кризис имперской идентичности и от которой берет начало история национального самосознания в России[457]. Аргументами в пользу этого утверждения служат факт участия в войне мирного населения, ссылки на пропагандистские тексты и мемуары современников. Правда, как справедливо заметил Х. Ян, эта война основательно изменила качество русского национального сознания, но до сих пор исследователи мало что знают о «характере патриотизма, который подтолкнул простых русских людей воевать против захватчиков»[458]. Я с этим согласна.
Мои сомнения в универсальности утверждения о рождении национального самосознания покоятся на нескольких презумпциях. Во-первых, участие в войне мирного населения еще не свидетельствует об изменениях в самосознании народа и вполне вписывается в архетипическую реакцию защиты собственного дома. Во-вторых, пропагандистские схемы 1805–1812 гг. не фиксировали сложившиеся ментальные установки, а конструировали (не всегда успешно) сознание современников, и делали это в опоре на опыт наполеоновской Франции (см. манифесты А.С. Шишкова, афиши Ф.В. Ростопчина, публикации Н.И. Греча и др.). И поскольку апелляция к национальному сознанию в условиях России не работала, то пропагандисты конструировали идеологию народной войны. Сам по себе этот конструкт служил не пониманию и не запоминанию, а военной тактике, частью которой он являлся. В-третьих, цитируемые мемуары, как правило, написаны в более позднюю эпоху, в условиях, когда личная память мемуаристов прошла через фильтр официальной версии прошлого, когда персональные воспоминания заместились идеологической памятью, созданной в правление Николая I. Люди стали помнить то, что им полагалось помнить.
А.Г. Венецианов «Обратный проход Наполеоновой гвардии через Вильну»
И наконец, есть еще одно соображение: за «кадром» национальной интерпретации событий Александровской эпохи остались свидетели, чьиголоса вносят какофонию в стройный хор историографии темы. В контексте утвердившейся в исторической памяти версии войны 1812 г. их речи непонятны или «темны». Я имею в виду визуальные тексты и проповеди. С точки зрения источниковых особенностей их объединяет общее целеполагание создателей – объяснить современникам смысл происходящего. Их анализ дает возможность говорить о параллельном сосуществовании нескольких версий войны: как столкновения космогонических сил, как борьбы за национальную независимость, как противостояния разбойничьему нападению.
Что касается первой версии, то еще в пропагандистских текстах 1806–1807 гг. проявились признаки отрицательной политической сакрализации Наполеона и его воинства. В них Наполеон дрейфует от тирана, «чудища», «сарацино-французского начальника», «гнусного злодея», «тигра, кровопийцы» к «злых фурий светочу, ада горну» и, наконец, к дьяволу и антихристу[459]. Анонимные современники приписывали Бонапарту слова:
Готов вселенную всю сразить одним ударом.
Ни Бога, ни людей я не щажу никак…
Чем больше груда тел, тем выше стану я…
Осталось довершить мне с помощью твоею,
чтоб в общий ров еще Россию погрести[460].
К.А. Зеленцов «Твердость русского крестьянина»
И раз так, то его противник, согласно логике вещей, должен был занять противоположный полюс. Действительно, во время военных событий 1812 г. образ русского императора стал окрашиваться в теургические тона. В проповедях и манифестах Александр I представал в сакральном контексте, а в его личном сознании утверждалась версия войны как судопроизводства. Вполне вероятно, что она была подсказана монарху архимандритом Филаретом (Дроздовым), проповеди которого Александр I слушал в домовой церкви князя А.Н. Голицына в критические дни поражений. Суть версии в том, что в ходе военного столкновения должен свершиться приговор божественных сил. На чашу весов положены духовное прошлое двух монархий и души двух императоров.
Читаемые в православных храмах проповеди трактовали Российскую империю как наследницу Священной империи германской нации, ведущую войну со всемирным злом и неверием[461]. Русская нация в них не фигурировала в качестве воюющей стороны. Если она и упоминалась, то только как антипод французской нации. «Русские» (они же «россияне») виделись неким священным войском, участвующим в «великой брани», орудием в Божьем деле, в деле правосудия и свободы. В христианской риторике это понятие имело чувственно-экзистенциальное звучание, ощущалось как красота и гармония «народного тела», как некий социально-христианский идеал благочестивого православного человека в России. Сакральный образ войны редко обнаруживается в графических источниках военного времени. Он воплотился в более монументальном материале: металле наградных медалей и камне послевоенных храмов.
В противовес официальной версии, определенный сегмент российской элиты интерпретировал текущее столкновение как борьбу за национальную независимость России. Наполеон (а не французы), по мнению А.П. Куницына, является разрушителем национальных свобод. И поскольку русские воюют за свою национальную жизнь, то справедливость на их стороне[462].
Декларируемая в политических текстах национальная солидарность противника («чужого») воспринималась просвещенными читателями России как вызов и как вариант агрессии. При отсутствии отрефлексированного чувства группности столкновение с идеологией французского национализма должно было порождать у европеизированных россиян ощущение разобщенности и, соответственно, физической слабости и незащищенности. Проявления этих настроений можно отследить в публицистике того времени. С одной стороны, в ней заметно стремление опровергнуть представление о наполеоновской армии как о сплоченной общности, а с другой – видно желание представить россиян как единое тело.