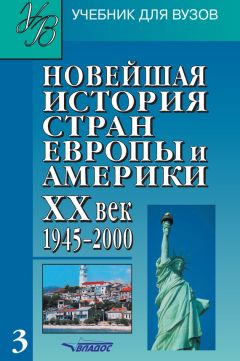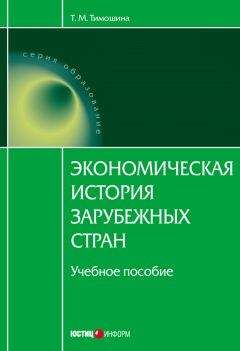Александр Бенуа - Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)
Особенно мне импонировала именно эта лестница. Она была поистине парадной и неизменно производила на меня впечатление какой-то своей торжественностью. Уже одно то, что на ней чудесно пахло (дядя Сезар был большим любителем душистых цветов и "благовонных" курений), придавало ей в моем представлении особенно "знатный" характер. У нас в прародительском доме была тоже весьма замечательная лестница - одна из немногих в Петербурге уцелевшая в своем первоначальном виде со времен Павла I, но, по обычаю тех патриархальных времен, у нас не было швейцара и лестница была холодная (она не отапливалась), а ее довольно стертые ступени пудожского камня не были покрыты ковром. Здесь же у дяди Сезара, прямо с мороза, я вступал в тропическую атмосферу, а ноги топтали густой алый ворс. По уступам с обеих сторон "марша" стояли горшки и вазы с пальмами, лаврами и другими вечно зелеными растениями.
Однако, было время, когда лестница дяди Сезара таила для меня и известную жуть. Дело в том, что насупротив швейцарской, в полуподвальном помещении, доживал свой век несчастный полоумный брат моей матери и дяди Сезара Станислав Альбертович Кавос, известный в семье под прозвищем "дяденьки Фа". Он родился калекой (Считалось, что причиной такого несчастья было то, что бабушка до полусмерти испугалась, когда во время одной заграничной поездки, остановившись по дороге в Неаполь в гостинице какого-то захолустного местечка, она ночью увидала, что лезут в окно бандиты. Бабушка бросилась из кровати и упала, а была она на последнем месяце беременности. Кстати сказать у меня в детстве представление об Италии и в особенности о Неаполе и его окрестностях было неразрывно связано с представлением о бандитах, в частности я был уверен, что они грабят всех путешественников на большой дороге и уводят их к себе в гроты в качестве заложников.), - одна рука и одна нога была у него короче другой, в течение же своей печальной жизни дяденька Фа успел себе еще раза два поломать и здоровую руку и здоровую ногу. Вид у дяди Фа был страшноватый. Его толстенный выгнутый нос свешивался над непрестанно чмокавшими губами, а в темных его глазах то и дело вспыхивал тревожный огонек. Нрава он был вообще кроткого, но терпеть не мог, чтобы над ним подшучивали. В те годы, когда и меня к нему стали водить на поклон, дяденька Фа уже был совершенной развалиной.
Он не вставал со своего высокого ложа (мне, маленькому, казалось, что он лежит на каком-то катафалке) и почти не говорил а больше мычал. Но в прежние годы, рассказывали мне, дядя Фа бывал иногда и опасен. Раз он чуть было не задушил нежно его любившую сестру - нашу обожаемую мамочку, ее насилу отняли, а за своими юными кузенами (сыновьями Ивана Катариновича Кавоса) он гонялся с ножом, приведенный в ярость их шутками. Особенно выводили его из себя намеки на некоторую его нечистоплотность, что было выражено и в особой, дарованной ему кличке. Услыхав свое имя с присовокуплением (вместо обычного дяденька Фа "Фафалифафёнок"), он начинал скрежетать зубами, брызгать пеной и, сорвавшись с места, долго носился за своими мучителями, натыкаясь на мебель и разрушая всё, что попадалось ему под руку. Во время таких преследований он и ломал себе руки и ноги...
Каждый раз, когда мы, братья Бенуа, бывали у дяди Сезара, надлежало сделать визит и дяденьке Фа. Я боялся этого, но любопытство брало верх, и я без особого протеста следовал за другими. С высоты своих подушек и перин он, немедленно повертывал голову, взором окидывал пришедших и необычайно громко, почти крича, произносил протяжное: "а а а..." В этот момент дяденька совершенно напоминал мне людоеда из сказки о Мальчике-с-пальчике. Затем начинался всегда один и тот же опрос, причем он всех и всё путал, мешая наши имена и не вполне разбираясь в родственных связях. "А, - говорил он, уставившись в кого-нибудь из нас, - это Бертуша", и тут же поправлялся: "Нет это Люля, нет - это Женя, нет - Сережа". "Как поживает папа?" "Как твоя мама?" "Как, она померла? Когда?" "А это кто? Шура? Какой такой Шура? (мое имя он произносил как-то по-итальянски Сшиура). Дай-ка я посмотрю на тебя поближе". Меня тащили к дяденьке, поднимали до его лица, а он чмокал меня своими мясистыми губами, причем больно колола его небритая борода. Тут я не выдерживал, пускался в рев и меня спешно уносили.
Кажется, в 1875 году дяденька Фа скончался. Для всех это явилось облегчением, но мне его стало ужасно жалко. Я устыдился своих капризов и понял, что обижал его своим нежеланием к нему приближаться. С этого же момента лестница в доме дяди Сезара и получила для меня свою "мистическую атмосферу". Дух дяди Фа для меня не переставал обитать в его подвальной квартире... Ни за что я не остался бы здесь один. Мне непременно почудилось бы, что дверь к дяденьке отворяется и что он, в виде мертвеца, выступает из нее, точнее всползает вверх по ступенькам. Каждый раз, когда мы входили в вестибюль, надлежало пройти мимо этой двери и, хотя я знал, что она теперь ведет в приятную квартиру (гарсоньер) кузена Жени, я всё же взглядывал на нее не без трепета.
Еще два слова о парадной лестнице дяди Сезара. Памятна она мне еще тем, что иногда на ней (несмотря на запрет) происходили наши игры с кузинами Кавос и другими детьми. Очень удобно было на ней устраивать засады при игре в "Казаки - разбойники". Но особенно запомнились мне те заседания, которые, по какой-то традиции, устраивались здесь при разъезде гостей. Обыкновенно их "открывала" бабушка Кавос, которая, пока слуга или швейцар надевали ей зимние ботики (вешалка для верхней одежды находилась на лестнице), опускалась на тут же стоявший ларь-диван. Рядом садилась мама и начинался разговор. Давно уже и бабушка, и мама, и я, и все были готовы к отбытию, однако оказывалось, что так приятно сидеть в этом просторном и теплом помещении, так неприятна перспектива выйти на стужу, что беседа затягивалась. Постепенно к ней присоединялись и другие гости, одни за другими покидавшие квартиру дяди Сезара. И все то рассаживались вокруг кто на фарфоровых тумбах-боченках, служивших стульями, а кто просто на ступенях. Вот это подобие импровизированного табора и нравилось мне чрезвычайно. Я едва ли понимал что-либо из тех пересудов, которым предавались дамы; к тому же то и дело беседа переходила на французский или на итальянский языки и как раз это случалось тогда, когда надлежало, чтобы я чего-либо не понимал, чему неизменно предшествовал наказ: "Pas devant les enfants" (Не в присутствии детей.). И тем не менее, несмотря на то, что мне становилось невыносимо жарко в полном зимнем снаряжении, с головой, закутанной в башлык, мне не хотелось, чтобы это заседание кончилось. Вся обстановка складывалась во что-то, похожее на пикниковый бивуак, иначе говоря на какую-то шаловливую игру, которой предавались "такие обычно скучные серьезные большие". Конец всё же наступал, бабушка, поддерживаемая швейцаром и внуком Сережей, спускалась вниз и все процессионально следовали за ними. А там за дверью чудовищный холод и скучнейший переезд, в потемках кареты, через весь город до нашего дома.
Кабинет дяди, коим замыкалось правое крыло квартиры, выходил своими окнами так же, как и предшествовавшая ему приемная, на улицу. Это была глубокая просторная, но по своей длине недостаточно высокая комната, что придавало ей характер несколько мрачный, давящий. По темно-зеленым стенам висели очень тесно картины, считавшиеся оригиналами Тинторетто и Веронеза, а также и эффектная "перспектива" XVIII века. На столах, по полкам и на консолях, выстроилась коллекция старинных бронз и других редкостей. Но главное свое украшение кабинет дяди получал от большого фламандского шкапа начала XVII века (если я не ошибаюсь замок, чудо слесарного искусства, был помечен 1610-м годом). Этот шкап представлял собой целый архитектурный фасад с массивными колоннами и резными статуями. Он был сделан из разноцветного, прекрасно подобранного дерева и роскошно убран по карнизам, ящикам и всюду, где только можно было, изящными интарсиями. В моих глазах это был не просто шкап, а царь всех шкапов. Как ни обидно было в этом признаться, наша обстановка ничего подобного не содержала. Я не пропускал случая, чтобы потрогать и погладить эти полированные, столь аппетитно круглившиеся колонны, полюбоваться тонкой резьбой капителей и тех мифологических персонажей, что стояли в нишах (Увы, теперь я не знаю, что сталось со шкапом дяди Сезара. В первые дни большевистской революции, внучки дяди (дети моего кузена Жени) передали шкап на хранение в Академию Наук, которая вместе с посольствами считалась тогда местом, наименее подверженным риску большевистских реквизиций. Однако, года через три Академия Наук, опасаясь обвинения в спасении буржуазного имущества, решила препроводить всё ей порученное Русскому музею и Эрмитажу. На "Канцелярской" лестнице последнего я в один печальный день и увидел милый "родной" шкап дяди Сезара, но. Боже, каким осиротевшим униженным и несчастным он мне показался на этом случайном месте. К тому же он успел лишиться двух статуй и кусочков инкрустаций. Стоял же он на лестнице в ожидании занесения в инвентарь под номером и, чтобы затем попасть в какой-либо "бытовой комплекс".)