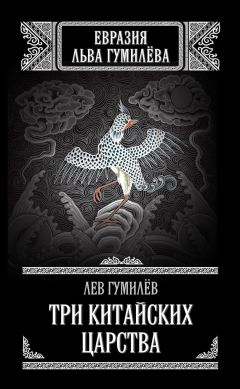Лев Гумилёв - Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации
Образно говоря, мы можем, подобно резвящимся глупым детям, переводить стрелки на часах истории, но возможности заводить эти часы мы лишены. У нас роль самонадеянных детей исполняют политики. Они по своему почину переводят стрелки с 3 часов дня на 12 часов ночи, а потом страшно удивляются: «Почему же ночь не наступила и отчего трудящиеся спать не ложатся? » За ответом на последний вопрос обращаются к тем самым академикам, которые научно обосновали необходимость перевода стрелок. Таким образом, те, кто принимает решения, совершенно не учитывают натуральный характер процессов, идущих в этнической сфере. И, зная пассионарную теорию этногенеза, удивляешься отнюдь не тому, что в стране «все плохо». Удивляешься тому, что мы все еще существуем.
Чтобы авторский пессимизм не выглядел голословным утверждением, достаточно произвести простой подсчет. Пассионарный толчок нашего суперэтноса, который раньше назывался Российской империей, затем Советским Союзом, а теперь, видимо, будет именоваться Союзом суверенных государств, произошел на рубеже XIII в. Следовательно, сейчас наш возраст – около 800 лет. Общая модель этногенеза свидетельствует, что на этот возраст падает один из наиболее тяжелых моментов в жизни суперэтноса – фазовый переход от надлома к инерции. Так что переживаемый нами кризис вполне закономерен и происходящие события в целом не противоречат такой интерпретации. Надлом в российском суперэтносе впервые обозначился после Отечественной войны 1812 г. Поскольку общая продолжительность фазы надлома около 200 лет, становится понятным, что так называемый советский период нашей истории является наиболее тяжелой, финальной частью фазы надлома, в которой былое единство суперэтноса исчезает и сменяется кровавыми эксцессами гражданской войны. Следовательно, горбачевская перестройка в действительности представляет собой попытку перехода к новой фазе развития – инерционной. Перестройку часто называют последним шансом, но в этническом контексте ее правильнее было бы назвать единственным шансом на дальнейшую жизнь, ибо исторический опыт свидетельствует, что суперэтносы, не пережившие этот фазовый переход, просто прекращали свое существование как системы, элементы которых распадались и входили в состав других суперэтнических систем.
С учетом ретроспективы этнической истории ничего уникального в нашей ситуации нет. Конечно, если мы сравниваем себя с современными западноевропейцами или американцами, то сравнение не в нашу пользу; мы огорчаемся, и совершенно напрасно. Сравнение имеет смысл лишь для равных возрастов этноса. Европейцы старше нас на 500 лет, и то, что переживаем мы сегодня, Западная Европа переживала в конце XV – начале XVI в.
Мы почему-то легко забываем, что благосостояние, гражданский мир, уважение к правам ближнего, характерные для современной Европы, являются результатом очень длительного и не менее мучительного, чем наше, исторического развития. Тихая и спокойная Франция при Миттеране, для которой террористический акт – событие, в XV в., точно так же как Россия в XX, полыхала в огне гражданской войны, только сражались в ней не белые и красные, а сторонники герцога Орлеанского и герцога Бургундского. Повешенные на деревьях люди расценивались тогда французами как привычный элемент родного пейзажа.
И потому как бы мы ни стремились сегодня копировать Европу, мы не сможем достичь их благосостояния и их нравов, потому что наш уровень пассионарности, наши императивы предполагают совсем иное поведение. Но даже с учетом отмеченного возрастного различия суперэтносов было бы неверно утверждать, будто распад страны есть только и исключительно следствие фазы надлома. Да, падение пассионарности в фазе надлома и даже в инерционной фазе в принципе всегда увеличивает стремление провинций к самостоятельности, и это вполне естественно. Ведь признак пассионарности в ходе этногенеза как бы дрейфует по территории страны от центра к окраинам. В итоге к финальным фазам этногенеза пассионарность окраин этнического ареала всегда выше, чем пассионарность исторического центра. Схема процесса очень проста: люди энергичные, стремясь избавиться от пристального внимания начальства и обрести побольше простора для деятельности, покидают столицы и едут осваивать новые земли. А затем начинается обратный процесс – их дети и внуки, сделав карьеру «на местах», едут в Москву или Петербург хватать фортуну за волосы. Таким образом, в центре власть оказывается в руках тех же провинциалов. Много ли среди политических лидеров последних лет коренных москвичей или петербуржцев? Н.И. Рыжков и Б.Н. Ельцин – уральцы, А.А. Собчак и Е.К. Лигачев – сибиряки, М.С. Горбачев и Е.К. Полозков – выходцы с Северного Кавказа и т.д. Мы намеренно упоминаем политиков с диаметрально противоположными программами, ибо суть не в лозунгах.
Разумеется, если провинции чувствуют свою силу, они не склонны слушать центральную власть. Так, в античном Риме на рубеже I в. н.э. провинциалы тоже стали единственной реальной опорой трона. Провинция наполняла легионы, давая империи защиту, провинция платила налоги, обеспечивая процветание Рима, который преимущественно потреблял. Но император Август, в отличие от М.С. Горбачева, понимал, что коль скоро провинции стали опорой его могущества, то расширять права провинциалов необходимо, но нельзя делать это в ущерб целостности государства. Август последовательно защищал провинции от произвола своей собственной центральной бюрократии, на деле считался с мнением местных властей, всячески стремился компенсировать собираемые большие налоги установлением законности и поддержанием твердого экономического и правового порядка. Именно таким образом он обеспечил империи процветание, а себе – 44-летнее правление. Конечно, сепаратистские эксцессы случались и при Августе, но носили они локальный характер и, как правило, легко ли, тяжело ли – улаживались.
У нас же центр со времен Ленина и до самого последнего времени руководствовался не национальными интересами страны, а человеконенавистнической коммунистической идеологией. Красная Москва перекраивала в соответствии с директивами ЦК образ жизни всех без исключения народов, подгоняя его под вымышленную вождями социальную схему. Реализуя политические утопии, власть насильственно перемещала ингушей и прибалтов – в Сибирь, а корейцев и калмыков – в Казахстан. Реализуя утопии экономические, та же большевистская власть переместила русских и украинцев по оргнабору в Прибалтику.
Да, налоги с провинций собирали твердо – за этим следили и Минфин, и Госплан, а вот решать местные проблемы кремлевские старцы чаще всего предоставляли «краям, областям, автономным и союзным республикам». Стоит ли удивляться тому, что окраины, как только появилась возможность, захотели избавиться от такой опеки центра? А ведь еще в 1986–1989 гг. даже наиболее радикально настроенные литовцы ограничивали свои требования предоставлением большей хозяйственной и политической самостоятельности. Иначе говоря, они были не прочь остаться в перестроенном Союзе Горбачева, если им дадут устроить свою жизнь так, как им нравится. И если бы возможность быть самими собой, жить по-своему была предоставлена всем – литовцам и чеченам, русским и узбекам, азербайджанцам и армянам, гагаузам и молдаванам – именно тогда, то наверняка не было бы сегодня десятка суверенных государств, не было бы прямой гражданской войны на Кавказе, не было бы гражданского противостояния в Прибалтике и Молдавии. Но центральное правительство продолжило безответственную интернациональную «политику социалистического выбора» и в результате не только не смогло удержать окраины, но и Москву потеряло окончательно.
Таким образом, «парад суверенитетов» не был запрограммирован в ходе этногенеза. Его вполне можно было бы избежать, если бы не проводимая коммунистическим правительством «линия партии». Она вполне сознательно игнорировала сам факт существования в стране разных этносов со своими традициями и стереотипами поведения и тем самым провоцировала эти народы к отделению.
Сегодня процесс распада, по-видимому, стал необратимым, и сделанного не вернуть. К сожалению, на окраинах дезинтеграция стала усугубляться и еще одним обстоятельством. Местными национальными движениями политика коммунистов воспринимается как русская национальная политика. Такая аберрация рождает величайшее заблуждение, ибо русские с октября 1917 г. точно так же были лишены возможности проводить свою национальную политику, как и все другие народы. Но даже в теоретическом смысле отождествление русских с коммунистами неправомочно. Коммунисты изначально представляли собой специфический маргинальный субэтнос, комплектуемый выходцами из самых разных этносов. Роднило их всех не происхождение, а негативное, жизнеотрицающее мироощущение людей, сознательно порвавших всякие связи со своим народом. (Такие структуры известны в этнической истории со времен античности, их принято называть антисистемами.) Вспомним знаменитое определение Л.Д. Троцкого – «кочевники революции» и вполне искреннее высказывание идейного доносчика и человекоубийцы Л.З. Мехлиса: «Я не еврей, я коммунист». Вряд ли найдутся эмоциональные, а уж тем более научные основания считать русским В.И. Ленина, поляком – Ф.Э. Дзержинского, а тофаларом – К.У. Черненко. Нам кажется одинаково неправомочным возлагать на русских ответственность за ленинскую национальную политику, а на латышей – ответственность за террор «красных стрелков» в отношении семей русских офицеров.