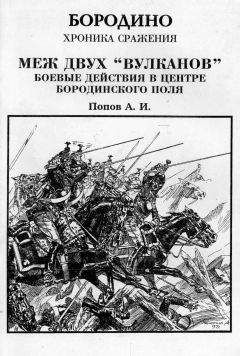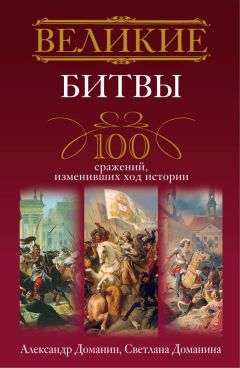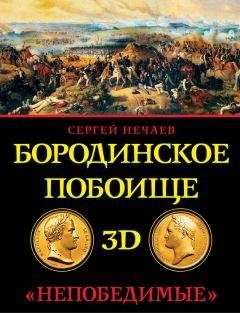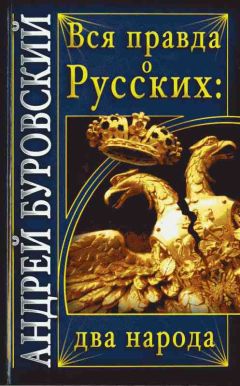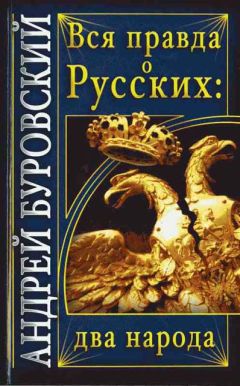Андрей Буровский - Вся правда о Русских: два народа
Война с Наполеоном вошла в историю как Отечественная война 1812 года. Под этим псевдонимом ее проходят во всех программах по русской истории, и в школах и в вузах, так названа она и в Галерее 1812 года в Эрмитаже.
Русский народ навсегда запомнил 1812 год. 1812 год остался в народной памяти как час торжества русского оружия, час патриотического подъема, героических свершений. И как время напряженной героической борьбы, время пожаров над Смоленском и Москвой, общего напряжения в борьбе с внешним врагом… Это отношение освящено колоссальными потерями народа: слишком большой кровью полита эта победа.
Пафос борьбы, смерти, победы, преодоления, освящение ее кровью чуть ли не двух третей трех мужских поколений — неотъемлемая часть русской культуры на протяжении ста пятидесяти лет. Еще автора этих строк в 1960-е воспитывали на ритуальном, чуть ли не религиозном отношении к событиям 1812 года.
Но все это — и дела, и память, и культура одних лишь русских европейцев.
У русских туземцев нет оснований присоединиться к нам в ТАКОМ отношении к событию. Русские туземцы и вели себя иначе, и запомнили все по-другому.
История, которую мы изучаемЭто не единственный пример того, как русская история пишется от имени исчезающе малого процента россиян. 1–2 % русских людей, живших в 1812 году, — это уже как бы и есть ВЕСЬ русский народ.
Вся русская история XVIII, XIX, начала XX века написана людьми из народа русских европейцев. Читая книги об истории Российской империи, впору решить: в России жили одни дворяне и разночинцы, потом появились еще образованные купцы и ремесленники… но немного.
99 %… 90 %… 80 % русского народа не участвует в этой истории.
Действительно, а чем жили русские туземцы весь XVIII, XIX века, начало XX века? Что волновало их, к чему они стремились? Как они-то воспринимали разделы Речи Посполитой и вступление русской армии в Варшаву? Взятие русскими войсками Берлина в 1760 году? Войну на Кавказе?
К середине XIX века между русскими европейцами и русскими туземцами уже возникли какие-то промежуточные группки, прослойки, «пропасть между дворцом и хижиной заполнена «мещанством», «третьим сословием», буржуазией»…[70. С. 14]. Как в Европе!
Все усложнилось, но поразительным образом история по-прежнему пишется «от имени меньшинства» — пусть это меньшинство все же и увеличилось в числе.
И это меньшинство очень плохо представляет себе — а каково оно, большинство?
Скажем, на Манифест от 17 февраля 1861 года, об Освобождении крепостных крестьян, русские европейцы отреагировали в основном восторженно. Даже те, кто владел крепостными, зачастую хотели освобождения, воспринимали его с энтузиазмом. Известны случаи, когда помещики добровольно раздавали землю, сами давали много больше, чем обязаны. А ведь к тому времени владельцы крепостных — от силы 5- 10 % всего народа русских европейцев. Не владельцы ликовали тем более искренно и горячо.
Наверное, правительство, да и 99 % либеральных русских бар ждали волны народных восторгов, массового умиления, приступа монархической верноподданности. То есть и это все было… Но реакция крестьянства оказалась, по крайней мере, более сложной,
На Освобождение 17 февраля 1861 года крестьянство реагировало по-разному: одни восторженно, другие недоуменно и даже с протестом. Были повстанцы, бунтовщики, с точки зрения которых Манифест от 17 февраля «баре подменили», не донесли до народа настоящую волю царя. Не мог же царь «на самом деле» одной рукой освобождать крестьян, другой рукой отнимать у них землю?! Ясное дело, по приказу бар на сходках читают «неправильный» манифест…
В 117 деревнях и весях Российской империи произошли самые настоящие восстания — в них то священник, то грамотный мужик читали «настоящий манифест», в котором чаяния крестьян получали, конечно же, полное удовлетворение. Прошла волна самозванчества: люди в поддевках и шапках называли себя «статскими, значица, советниками» и «анаралами» и приносили «прям от царя-Освободителя» текст настоящего, «правильного» манифеста. Многое в этом прямо напоминает пугачевщину — в первую очередь само самозванчество и «настоящие» манифесты.
То есть получается — мы крайне плохо представляем себе духовную жизнь крестьянства…
В конце XIX — начале XX веков приходится спрашивать точно так же, как о разделах Польши в XVIII веке: а как оценивали крестьяне, вообще все русские туземцы поражение Российской империи в Крымской войне? Русско-турецкую войну 1878–1879 годов? Политику Победоносцева?
Известно, как популярны были среди крестьян реформы Столыпина. Но… простите, среди каких именно крестьян? Среди какого их количества? Известно, что из общины вышли примерно 25 % мужиков. Эти «народные русские европейцы» боготворили Столыпина и вешали в домах его портреты. Когда Столыпин приехал в Новороссийск, крестьяне выпрягли лошадей и на себе повезли своего кумира в гостиницу. Они до поздней ночи мешали Петру Аркадьевичу спать, он несколько раз выходил на балкон, и толпа встречала его ревом…
Все так — но был ли Петр Аркадьевич таким же кумиром и для 75 % крестьян, которые НЕ вышли из общины? Эти-то как его воспринимали и как о нем говорили?
Неизвестно…
Неизвестно потому, что и для XX века русскую историю пишут так, словно русские европейцы — и есть весь русский народ. Остальные как бы и не существуют.
По отношению к началу XX века мы изучаем уже историю не 1 %, а 20–25 %… Но ведь все равно — меньшинства.
Европейская версия русской историиПо-своему это логично: каждый новый слой русских европейцев присваивает себе сделанное прежним слоем или слоями — как часть своей собственной истории. Он гордится победами 1812 года, как своими победами, он чтит Ломоносова и Сумарокова как своих поэтов и ученых.
Граф Алексей Константинович Толстой пишет в приступе аристократического снобизма:
Стоял в углу, плюгав и одинок,
Какой-то там коллежский регистратор{10} [71. С. 63].
В других местах он в сатирических произведениях позволяет себе поминать «чиновников пятнадцатого класса» (несуществующего! что называется, «ниже пола»!) или писать про «триста зловонных подмастерий» [72. С. 492].
Но следующие поколения русских европейцев становятся на сторону не этих «трехсот зловонных подмастерий» или чиновника «пятнадцатого класса» — они с удовольствием учат стихи А. К. Толстого, в том числе и те, которые содержат самые уничижительные слова об их предках.
Так было всегда — и французы ведь «простили» римлянам завоевания галлов, стали учить историю Римской империи как историю своих предков… Но тут-то ассимиляция туземцев европейцами происходит внутри одного и того же народа!
Везде европейцы «в упор не видят» туземцев, ые считают их в полной мере людьми, не замечают их представлений об окружающем, не изучают их истории. Так и в России — при том, что тут-то речь идет вовсе не о британцах и об англичанах, а о людях, которые сказали на русском языке свое первое «мама»!
В 1826 году по рукам начала ходить эпиграмма, которую упорно приписывали Пушкину:
Едва царем он стал,
То разом начудесил:
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь сослал,
А пятерых повесил [73. С. 198].
Авторство эпиграммы не доказано… Но стиль, знаете ли, стиль… И еще: царь Салтан в «Сказке о царе Салтане» тоже «в гневе стал чудесить», — слово использовано то же самое. Сказка же появилась на свет в 1822 году — до эпиграммы. Поэтому в авторство Пушкина я верю.
Впрочем, если писал и не Александр Сергеевич, не менее важна мысль, выраженная в стихах. Простите, Александр Сергеевич, скольких «он» (то есть Николай I) сослал в Сибирь? 120? А повесил? Пятерых?
То есть в чем-то Вы правы, великий, по заслугам чтимый нами поэт… ведь туземцев не судили и не вешали, их расстреливали и прогоняли сквозь строй.
14 декабря на Сенатской площади стояли 3000 солдат под командой 30 офицеров-декабристов. Собравшуюся толпу оценивали по-разному — от 5 до 15 тысяч человек. В любом случае обывателей было намного больше, чем солдат. Солдаты плохо понимали, зачем и куда они пришли! Им приказывали кричать «Ура Константину!» — они кричали, выполняя приказ. Им приказывали кричать «Ура конституции!» — и они старательно кричали и это, а потом спрашивали:
— А кто такая Конституция?
— Жена Константина! — отвечали им более «сведущие», и все становилось понятно.
Днем солдаты (опять же — честно выполняя приказ) несколько раз отражали атаки верной правительству конницы. Убитых пока немного — то ли 7, то ли 12 человек. Как видите, этих погибших современники даже не удосужились посчитать — но в любом случае их было больше, чем повешенных после дворян.
Постепенно правительство подтянуло верные войска, и около пяти часов Николай I приказал разогнать собравшихся картечью — «дабы волнение не передалось черни». Солдат не стал делать первого залпа. «Свои, ваше благородие!»{11} — крикнул он. Офицер оттолкнул солдата, сам приложил пальник к пороховой дорожке. Грянул первый залп.