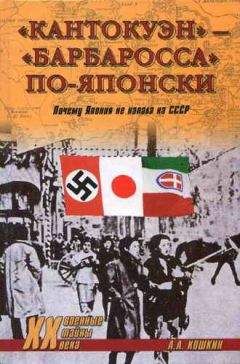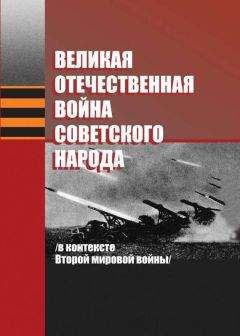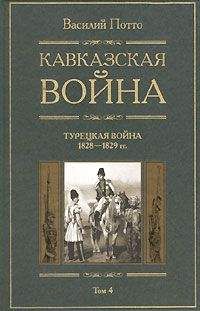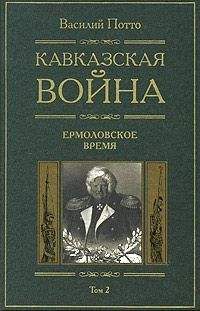Василий Потто - Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
На следующий день, на разводе, генерал Бутурлин отвел Давыдова в сторону и сказал: “Знаете ли, что я сейчас говорил о вас с Дибичем? Он спрашивал, согласитесь ли вы ехать в Грузию, где теперь война и куда государь хочет послать вас?” “Что же ты сказал?” – “Я не знал вашего намерения и, желая дать вам средства отказаться, буде вы не захотите принять такого предложения, сказал, что вряд ли вы согласитесь, имея большую семью и расстроенное имение. Теперь ваше дело, решиться ехать в Грузию или нет”.
Пока Бутурлин говорил, Давыдов уже решился – и решился ехать. “Слово война,– говорит он,– по сю пору имеет для души моей звук магический, да и выбор меня первого на путь опасности и чести не мог не льстить моему самолюбию, столь мало избалованному в течение всей моей двадцатисемилетней службы”. 11 августа Давыдов явился к Дибичу. “Государю угодно, чтобы вы ехали в Грузию,– сказал ему Дибич,– там война, ему нужны отличные офицеры; он избирает вас, но прежде желает знать – согласитесь ли вы на это назначение?” – “Прошу вас, доложите его величеству,– ответил Давыдов,– что я не колеблюсь ни минуты и что благодарное сердце мое никогда не забудет этого знака его внимания ко мне”.
Так решено было назначение Давыдова. На следующий день, 12 августа, он уже откланивался государю. Император принял его в своем кабинете. “Прости меня, Давыдов,– сказал он,– что я посылаю тебя туда, где, может статься, тебе быть не хочется”. “Я пришел благодарить ваше величество,– отвечал Давыдов,– за выбор столь лестный для моего самолюбия. Я так мало избалован, государь, судьбой в течение моей службы, что от милостивого вашего воззрения я вне себя от восторга и счастья. Сделайте милость, государь, коль скоро предстанет прямая, честная, опасная дорога, не спрашивайте, хочу я или нет избирать ее. Бросайте меня прямо на нее; верьте, что я это сочту за особое благодеяние А теперь,– добавил он – позвольте мне, ваше величество, изложить мою просьбу”.– Что такое? – “Когда война кончится, позвольте, не спросясь ни у кого, возвратиться в Москву,– я здесь оставляю хвост, жену и детей”. “Я тебя не определяю в Кавказский корпус,– сказал государь,– а посылаю туда для войны с оставлением по кавалерии; следовательно, ты к этому корпусу не принадлежишь. Когда война кончится, скажи Алексею Петровичу, что я желаю твоего возвращения, он тебя отпустит, и дело кончено”.
Потом, остановившись у бюро и рассказав Давыдову с очевидным неудовольствием о вторжении персиян, о взятии у нас двух орудий и гибели нескольких рот, государь передал словесно некоторые приказания к Ермолову, обнял Давыдова и заключил свидание следующими словами: “Ну, прощай, любезный Давыдов, желаю тебе счастья, и первое известие о тебе иметь вместе с твоими успехами”.
Довольный, полный надежд и желаний, Давыдов через три дня уже скакал на Кавказ. Но, как мы выше видели, надеждам его исполниться было не суждено. Вся роль его в персидской войне ограничилась незначительным миракским делом и набегом на Эриванское ханство, которому со стороны персиян не было противопоставлено никакого сопротивления. С падением же Ермолова, Давыдов обречен был на полное бездействие.
“Родство мое с Алексеем Петровичем, сошедшим так рано со служебного поприща,– писал он в одном из своих частных писем,– поставило меня в затруднительные отношения с Паскевичем и с новыми лицами. Я, впрочем, перенес бы стоически все неприятности, если бы получил какую-нибудь команду, ибо был прислан самим государем на действительную службу, а от Паскевича получил приказание сопровождать без службы главную квартиру, вместе с маркитантами, тогда как генерал Панкратьев, младший меня в чине, никогда не бывший военным человеком и давно уже просившийся в обер-полицеймейстеры, получил блистательное назначение и команду, состоящую из шести тысяч человек. Я бы, может быть, победил в себе чувство оскорбленного самолюбия, если бы сам просился в Кавказский корпус; но это дело было уже не мое, а моего государя – и потому я решился выбыть из корпуса”.
Зимой Давыдов ездил в Москву повидаться с семейством; весной он возвратился на Кавказ, но, не получив никакого назначения в действующем корпусе, остался в Пятигорске на минеральных водах и провел там все лето 1827 года, прислушиваясь к отдаленному грому русских побед. Тогда-то, в грустном уединении, он написал свое известное стихотворение:
Нет, братцы, нет! Полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой.
..................................................
Аракс шумит, Аракc шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
А Алагез, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом.
Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края,
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека груда снеговая...
На нем знакомый вихрь, на нем громада льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая недоступном
Горит родимая звезда.
Величавая природа Кавказских гор, роскошные долины Иверии, библейский Арарат, в виду которого, как буря, пронесся он со своим летучим отрядом, неизгладимо запечатлелись в его чуткой душе и отразились в звучных стихотворениях его. Персидская война, по своей кратковременности, конечно, ничего не прибавила к славе знаменитого поэта-партизана, но она связала имя Давыдова с Кавказом, куда так долго и так напрасно стремились его желания и думы.
Возвратившись с Кавказа, Давыдов поселился в своей приволжской деревне. И вновь потекли для него дни томительного бездействии, тем более отзывавшегося на нем, что вслед за персидской войной возникла турецкая, а он лишен был участия в них. Душевное состояние его сказывается в его стихотворениях, относящихся к этой эпохе.
Давно ль под мечами, в пылу батарей,
– говорит он в одном из них.
И я попирал дол кровавый
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?
Давно ль?.. Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит...
Мятеж, вспыхнувший в Польше, вызвал его, однако же, еще раз на ратное поле. 12 марта 1831 года он прибыл в главную квартиру русской армии и тронут был до глубины души приемом, который ему сделали. Знакомые и незнакомые, старые и молодые, офицеры и солдаты,– все приветствовали его с нескрываемой радостью. Через десять дней он был уже в Красноставе, где кочевал порученный ему отряд – Финляндский драгунский полк и три полка казаков. С этим летучим отрядом он берет приступом город Владимир-Волынск и усмиряет этим мятеж, охвативший Волынь и Подолию. Затем он командует передовыми отрядами в корпусе Ридигера, сначала в окрестностях Люблина, потом за Вислой, между Варшавой и Краковым.
За приступ Владимира Дибич представил Давыдова к ордену св. Георгия 3-го класса; но этой награды он получить не удостоился. Чин генерал-лейтенанта, анненская лента и Владимир 2-го класса – вот последние боевые награды его. Окончилась война, и Давыдов снова в Москве, на родине, в кругу своего семейства, снова за литературным трудом.
В это время он ведет обширную переписку с Вальтером Скоттом и обменивается с ним подарками. Английский романист прислал ему свой портрет; Давыдов, не считая приличным отплатить тем же, отправил ему куртинскую пику и персидский кинжал, отбитые им вблизи Эривани, и черкесский лук с колчаном, наполненный стрелами, который ему удалось добыть проездом через Кавказскую линию. Но Вальтер Скотт сам приобрел гравированный портрет русского партизана,– “черного капитана”, как звали его в Англии. “Портрет этот,– писал Давыдову Вальтер Скотт,– висит в моем кабинете оружия, над предметом весьма для меня драгоценным: это меч, завещанный мне предками, который в свое время не оставался в праздности, хотя три последние миролюбивые поколения нашего племени и вели жизнь спокойную”.
Пушкин, Жуковский, Языков, Вяземский и многие представители русской литературы находились с Давыдовым в дружеской переписке. Посылая ему историю Пугачевского бунта, Пушкин писал ему между прочим:
Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою,
При громе пушечном, в огне,
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир ...
Но и на этой службе трудной,
И тут, о, мой наездник чудный.
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой!
Наступил 1839 год. Россия готовилась, к торжественному открытию Бородинского памятника. Давыдов не остался равнодушным к этим приготовлениям. Он подал государю записку, в которой убедительно просил перенести тело славного князя Багратиона, покоившегося в селе Сима, Владимирской губернии,– или на Бородинское поле, или в Александро-Невскую лавру, где лежит Суворов. “В первом случае,– писал Давыдов,– великая жертва сочеталась бы с великим событием; во втором – знаменитый питомец лег бы возле великого своего наставника”. Император Николай вполне оценил эту мысль и приказал перенести прах Багратиона на берега Колочи, на то место, где герою суждено было в последний раз померяться с врагами России. На Давыдова возложено было сопровождать гроб князя на Бородинское поле. Но Провидение не судило ему, однако, дожить до этой торжественной минуты. За несколько месяцев до открытия памятника, 22 апреля 1839 года, он неожиданно скончался в своем имении в Верхней Мазе, Сызранского уезда, Симбирской губернии.