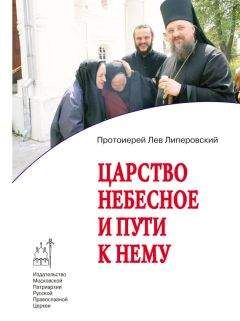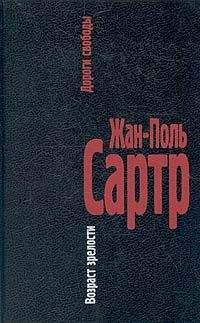Дон-Аминадо - Поезд на третьем пути
Вся верхняя часть его обгорела, и на сильно пострадавшей палубе уныло торчали обуглившиеся мачты, а от раскрашенной полногрудой наяды, украшавшей нос корабля, уцелел один только деревянный торс, покрытый зеленым мохом и перламутровыми морскими ракушками.
Вся нижняя часть парохода осталась нетронутой, машинное отделение, трюм, деревянные нары для солдат, которых во время войны без конца перевозил "Дюмон д'Юрвиль", всё было в полном порядке.
Что можно было починить, починили наспех, и кое-как, и по приказу адмирала командовавшего флотом, обгоревший пароход должен был идти в Босфор.
Группа литераторов и ученых быстро учла положение вещей.
Опять кинулись к консулу, консул к капитану, капитан потребовал паспорта, справки, свидетельства, коллективную расписку, что в случае аварии, никаких исков и претензий к французскому правительству не будет, и в заключение заявил:
- Бесплатный проезд до Константинополя, включая паек для кочегаров и литр красного вина на душу.
Василевский в меховой шубе и в боярской шапке уже собирался кинуться капитану на шею и, само собой разумеется, задушить его в объятиях, но благосклонный француз так на него посмотрел своими стальными глазами, что бедняга мгновенно скис и что-то невнятно пробормотал не то из Вольтера, не то просто из самоучителя.
20-го января 20-го года, - есть даты, которые запоминаются навсегда, корабль призраков, обугленный "Дюмон д'Юрвиль" снялся с якоря.
Кинематографическая лента в аппарате Аверченки кончилась.
Никому не могло придти в голову крикнуть, как бывали прежде:
- Мишка, крути назад!
Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной.
И те, кто стоял наверху, на обгоревшей пароходной палубе.
Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех:
Здесь обрывается Россия
Над морем Черным и глухим.
***
Группа была пестрая, случайная, соединенная стечением обстоятельств, но дружная и без всяких подразделений и фракций.
Старик Овсяннико-Куликовский в последнюю минуту передумал, махнул рукой, смахнул слезу, и остался на родине.
С. П. Юрицын, бывший редактор "Сына отечества", наоборот только в последнюю минуту и присоединился.
Был он мрачен, как туча, и держался в стороне.
Художник Ремизов, в "Сатириконе" Ре-Ми, еще за час до отплытия начал страдать морской болезнью.
Ни жене, ни сыну ни за что не хотел верить, что пароход еще стоит на месте, и, стало быть, все это одно воображение.
- Гримасы большого города! - ядовито подсказал розовый, застенчивый, но всегда находчивый Полонский.
Намек на имевшие всероссийский успех знаменитые Ремизовские карикатуры оказал живительное действие, талантливый художник сразу выздоровел, и на следующий день, несмотря на настоящую, а не выдуманную качку, не только держал себя молодцом, но даже написал портрет капитана Мерантье, что сразу подняло акции всей группы.
Капитан благодарил, консервные пайки были сразу удвоены.
Б. С. Мирский, - мы всегда предпочитали этот лёгкий псевдоним его двойному, ученому имени, - казался моложе других, заразительно хохотал, и рассказывал уморительные истории из жизни "Синего журнала" и других петербургских изданий того же типа, о которых теперь никто бы ему и напомнить не решился.
Ехал с нами и приятель Мирского, А. И. Ага, бывший секретарь бывшего министра А. И. Коновалова, почти доцент, но никогда не профессор.
Жена его и двухлетний сын Данилка, пользовавшийся всеобщим успехом, делили с нами и пищу кочегаров, и мертвую морскую зыбь.
Суетился, как всегда, один Василевский, которого называли Сумбур-Паша, без всякой впрочем задней мысли, касавшейся его сложного семейного положения.
Положение было действительно сложное, ибо вез он с собой двух жен, одну бывшую, с которой только что развелся, и другую, настоящую, на которой только что женился.
Вышел он, однако, из этой путаницы блестяще: одну устроил на корме, другую на носу.
И так, в течение всего пути, и бегал с кормы на нос, и с носа на корму, в боярской шапке, и с огромным кипящим чайником в руках, добродушно поставляя крутой кипяток на северный полюс и на южный.
Ехали долго: турецкие мины еще не все были выловлены.
Обгоревшая громадина тоже требовала немало забот и зоркой осмотрительности.
Кроме того, в одно прекрасное утро взбунтовались и негры-кочегары, ошалевшие от красного вина и раскаленных печей.
Скрестили черные руки на черной груди и потребовали капитана Мерантье в машинное отделение.
Василевский вызвался его сопровождать, но одного взгляда стальных глаз было достаточно, чтобы в корне задушить этот самоотверженный порыв.
Переговоры продолжались долго.
Группа ученых и литераторов не на шутку приуныла.
Ремизов взволновался и предлагал написать всех негров по очереди, да ещё пастелью.
Большинством голосов пастель была отвергнута.
В ожидании событий кто-то предложил свой корабельный журнал, на страницах которого каждый из присутствующих должен был кратко ответить на один и тот же ребром поставленный вопрос:
- Когда мы вернёмся в Россию?..
Корреспонденты с мест немедленно откликнулись. Один писал:
- Через два года, с пересадкой в Крыму.
Последующие прогнозы были еще точнее и категоричнее, но сроки в зависимости от темперамента и широты кругозора, всё удлинялись и удлинялись.
Заключительный аккорд был исполнен безнадёжности.
Вместо скоропалительной риторики кто-то, кто был прозорливее других, привёл стихи Блока:
И только высоко у царских врат,
Причастный тайнам плакал ребёнок
О том, что никто не придет назад.
После полудня негры выдохлись.
Настроение пассажиров быстро поднялось.
Страшная кочегарка показалась хижиной дяди Тома.
Загудели машины, из покривившихся на бок, пострадавших от пожара труб вырвались клубы черного дыма, и снова закружились неугомонные чайки над старым "Дюмон д'Юрвилем".
На шестые сутки - берега Анатолии.
Мирт и лавр, и розы Кадикэя.
Босфор. Буюк-Дере. Дворцы, мечети, высокие кипарисы.
Колонна Феодосия. Розовые купола Святой Ирины в синем византийском небе.
И над всем, над прошлым, над настоящим, сплошной довременный хаос, абсурд, бедлам, международный сумасшедший дом, который никакой прозой не запечатлеть, никаким высоким штилем не выразить.
О, бред проезжих беллетристов,
Которым сам Токатлиан,
Хозяин баров, друг артистов,
Носил и кофий и кальян.
Он фимиам курил Фареру,
Сулил бессмертие Лоти.
И Клод Фарер, теряя меру,
Сбивал читателей с пути.
А было просто... Что окурок,
Под сточной брошенный трубой,
Едва дымился бедный турок,
Уже раздавленный судьбой.
И турка бедного призвали,
И он пред судьями предстал.
И золотым пером в Версали
Взмахнул, и что-то подписал...
Покончив с расой беспокойной
И заглушив гортанный гул,
Толпою жадной и нестройной
Европа ринулась в Стамбул.
Менялы, гиды, шарлатаны,
Парижских улиц мать и дочь,
Французской службы капитаны,
Британцы мрачные как ночь,
Кроаты в лентах, сербы в бантах,
Какой-то Сир, какой-то Сэр,
Поляки в адских аксельбантах,
И итальянский берсальер,
Малайцы, негры и ацтеки,
Ковбой, идущий напролом,
Темнооливковые греки,
Армяне с собственным послом!
И кучка русских с бывшим флагом,
И незатейливым Освагом...
Таков был пестрый караван,
Пришедший в лоно мусульман.
В земле ворочалися предки,
А над землей был стон и звон.
И сорок две контрразведки
Венчали Новый Вавилон.
Консервы, горы шоколада,
Монбланы безопасных бритв,
И крик ослов... - и вот, награда
За годы сумасшедших битв!
А ночь придет - поют девицы,
Гудит тимпан, дымит кальян.
И в километре от столицы
Хозары режут христиан.
Дрожит в воде, в воде Босфора,
Резной и четкий минарет.
И муэдзин поет, что скоро
Придет, вернется Магомет.
Но, сын растерзанной России,
Не верю я, Аллах прости!
Ни Магомету, ни Мессии,
Ни Клод Фареру, ни Лоти...
Константинопольское житие было недолгим.
Встретили Койранского, обрадовались, наперебой другу друга расспрашивали, вспоминали:
- Дом Перцова, Чистые Пруды, Большую Молчановку, Москву, бывшее, прошлое, недавнее, стародавнее.
Накупили предметов первой необходимости - розового масла в замысловатой склянке, какую-то чудовищную трубку с длинным чубуком, и замечательные сандаловые четки.
Поклонились Ай-Софии, съездили на Принцевы острова, посетили Порай-Хлебовского, бывшего советника русского посольства, который долго рассказывал про Чарыкова, наводившего панику на Блистательную Порту.
- Как что, так сейчас приказывает запречь свою знаменитую четверку серых в яблоках, и мчится прямо к Аблул-Гамиду, без всяких церемоний и протоколов.