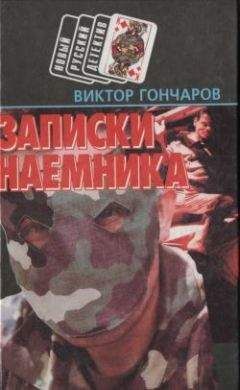Виктор Чернов - Записки социалиста-революционера (Книга 1)
Я спасался от всех этих тяжелых дум, погружаясь в такие успокаивающие, такие далекие от треволнений жизни вопросы абстрактной философии, в жадное, пытливое искание "начала всех начал". Проверяя себя, снова и снова отбрасывала критическая мысль все эти разночтения метафизики - и метафизики "по ту сторону", и метафизики "по сю сторону опыта": "в начале было Слово", "в начале была Материя", "в начале был Разум"... Я уже искал не онтологического, а только логического "начала", надежной исходной точки. Словно магнит, притягивал меня первичный элемент всякого опыта - ощущение, восприятие. С пугающей повелительностью из этого "в начале было ощущение" выглядывал призрак солипсизма. Этот солипсизм - который многие философы признают "практически неприемлемым, но логически неопровержимым" - как будто вызывал меня на единоборство, в котором я не раз изнемогал и готов был сдаться. Но вот, понемногу оформлялась беспокойная, но еще неясная мысль. Что такое "ощущение", "восприятие".
Я говорю "мое ощущение", "мое восприятие", и тем самым подчеркиваю в нем субъективный момент, затушевывая объективный. Но ведь восприятие само по себе безлично. Оно не содержит в голом виде ни "я", ни "не я"; эти различения - плод накопления целого ряда восприятий, ощущений и {230} впечатлений, плод их сравнения, различения, обработки, составления понятий о "содержании" ощущения и о "форме", т. е. психической принадлежности его; само по себе восприятие ни субъективно, ни объективно, и столь же мало является монопольной принадлежностью "мира внутреннего", как и "мира внешнего". Оно ни-то, ни другое... а что же? Нечто "третье", не имеющее имени, - слитное и неразложимое, первоисточник всех наших умственных "делений", не исключая и деления на "внешнее" и "внутреннее". И вдруг, словно "нечаянною радостью", озарила меня мысль: так, стало быть, исходя из логической первичности "ощущения", я вовсе не растворяю всего мира в "игру теней" на зеркале субъективного бытия, вовсе не топлю всего красочного мира в бездонной пропасти собственного, чудовищно разросшегося "я"; ведь тогда значит, что реальность внешнего мира и реальность моего собственного "я" стоят на одной доске и не подрывают друг друга, а наоборот - друг друга обусловливают и подкрепляют. Вот оно, наконец, искомое - вот позиция, спасающая и от материализма, объявляющего "дух" призрачным эпифеноменом, и от идеализма, объявляющего призраком все материальное. Трудно представить, какой подъем духа вызвал во мне этот нежданно обретенный логический просвет. Так натыкается на животворный оазис истомленный путник, скитавшийся долго без капли воды в выжженных солнцем пустынях Сахары. Слишком долго мучил мою голову разъедающий, проклятый дуализм "духа" и "материи", субъекта и объекта, глубокой трещиной прошедший через весь мир явлений.
Сколько раз манили меня миражные оазисы - то в виде Спенсеровского "непознаваемого", то в виде кантовской "вещи в {238} себе", восстановлявшие хотя бы где-то в логическом "четвертом измерении" утраченное единство мира. И вдруг все эти "искусственные" виды монизма сменились монизмом естественным, органическим. Дуализм оказалось возможным устранить из "первоисточника", из первичного "ощущения". Сакраментальная фраза "наш мир есть в сущности, мир наших ощущений" - вдруг потеряла свой "идеал-диетический" характер. Природа восприятия оказывалась такова, что если бы я тогда прочел знаменитую фразу Авенариуса - "я не знаю ни психического, ни физического, а только третье" - мне бы показалось, что он выговаривает мою собственную мысль. Впервые новым светом озарилась передо мною вся "глубина глубин" знаменитого Гетевского двустишия
"Nichts ist innen, nichts ist ausen
denn, was drinnen, das ist draussen..."
Какие развертывались при этом новые горизонты, в еще смутных и неуловимых контурах, загадочно маня и обещая какое-то разрешение множества проблем. Как бесследно должен был улетучиться, например, призрак "в нас" живущего индивидуализированно-духовного "начала". И я спешил обрести, схватить во всей полноте счастливо обретенную критико-реалистическую позицию, которая то вырисовывалась во всей полноте и незыблемой прочности, суля заманчивую целостность положительно-научного миросозерцания, то безнадежно запутывалась, то ускользая, как угорь, или меняя формы, как Протей. Это были настоящие "муки родов", в которых я переходил от надежд к отчаянию, от восторга к унынию. Я пытался уловить решение той самой {232} проблемы, которую Авенариус потом объявил решенной в своей знаменитой "принципиальной эмпириокритической координации" ...
В разгар этих потуг, находок и потерь, подъемов и упадков духа, пришла и другая "нечаянная радость". Мне принесли все мои вещи, велели одеться и собраться, ибо "во внимание к ходатайству отца и дяди, действительного статского советника Даниила Лукича Мордовцева", меня решено перевести из Петропавловской крепости в Дом Предварительного Заключения. Я мысленно благословлял Д. Л. Мордовцева, - дальнего родственника, для этого случая назвавшегося моим дядей, давно интересовавшегося мной и ободрявшего меня в первых моих полудетских писательских опытах.
В Петропавловке не давали никому письменных принадлежностей; разрешение иметь грифельную доску было уже редкой милостью; но и в случае разрешения на бумагу и чернила, ничто исписанное, по незыблемой конституции крепости, не могло быть вынесено заключенным из нее, а должно было стать "казенной" собственностью и остаться навсегда в крепостных стенах. "Дом Предварительного Заключения" означал возможность писать, что для меня было истинным счастьем...
С пером в руках я почувствовал себя сразу же как-то умственно сильнее - ощущение, которое должно быть знакомо многим писателям. Библиотека Дома Предварительного Заключения была гораздо богаче. Я мог взять впервые в руки Кантовскую "Критику чистого разума", с которой дотоле был знаком лишь из вторых рук - из "Истории материализма" Ф. А. Ланге; мог дочитать начатый в Москве второй том "Капитала". Но главное, что приковало {232} в библиотечном каталоге мое внимание - это новое для меня название "Критические заметки к вопросу о развитии капитализма в России", с знакомым по петербургскому кружку именем автора Петра Струве.
Редко приходилось читать мне книгу, вышедшую из-под пера социалиста, которая всем своим духом и тоном была бы мне более чужой, чем эта. Несколько месяцев спустя мне пришлось прочесть "К вопросу о монистическом понимании истории" Бельтова; она задела меня за живое, она была мне глубоко враждебна, но такой далекой и чуждой она мне все же не была. В лице Бельтова ясно виделся вчерашний друг, сделавшийся ожесточенным врагом, "сжегший то, чему поклонялся", возненавидевший то свое прошлое, с которым должен был выдержать внутреннюю борьбу. Этот тип был мне понятен.
Нo в Петре Струве, со страниц его книжки на меня выглядывал как будто духовный облик жителя другой планеты. Ход наших чувств и дум как будто не сходился нигде, протекая повсюду в разных плоскостях. Когда Струве, вслед за Листом, находил дышащие истинным энтузиазмом слова, воспевающие мощь капитализма и победоносное шествие его по всем языкам, мне казалось, что это человек, по недоразумению воспринявший налет социализма и всем своим естеством принадлежащий стану "златого тельца". Когда он прилежно поучал русскую публику, излагая теории американца Гентона, доказывавшего, что самому капитализму, в интересах расширения рынка, выгодно увеличивать покупательную силу пролетариата путем увеличения заработной платы - мне чудилась может быть не сознательная, но явная тенденция к апологии буржуазного {234} режима. Когда Струве выговаривал "можно быть марксистом, не будучи социалистом", я с ним соглашался, считал его самого лучшей иллюстрацией этого положения. Когда он кончал призывом "на выучку капитализму", я в ответ восклицал: "это не социал-демократия, а какая-то ублюдочная социал-плутократия" - фраза, впоследствии вычеркнутая из моей статьи редакционной цензурой. Но книге Струве я многим обязан. Она вынудила меня, путем толчка "от обратного", самоопределиться, так сказать, по всей линии фронта. Я, разумеется, принялся писать статью, разраставшуюся с каждым днем, пытающуюся разом охватить все, начиная от основоначал критической философии, продолжая вопросом о методе в социологии, теорией борьбы за индивидуальность, проблемой необходимости и свободы, роли личности в истории, и кончая вопросом о судьбах капитализма в России, о пролетариате и крестьянстве, о политической свободе и аграрной революции... Через три месяца статья была, наконец, закончена. Я дал ей такое же длинное и неуклюжее заглавие, как длинна и неуклюжа была она сама: - "Философские изъяны доктрины экономического материализма", и решил вывести это детище в свет: направить его в редакцию "Русской Мысли" ("Русское Богатство", где такие темы были в ведении "самого" Н. К. Михайловского, казалось мне чем-то недосягаемым). Статья моя - замечу тут же, забегая несколько вперед разумеется, принята не была. Первый блин вышел комом - и еще каким увесистым комом. Обычная слабость начинающего автора, который слишком передумал и потому одержим желанием высказать "все сразу", у меня оказалась в превосходной {235} степени. Мой первый опыт я мог бы уподобить одному из тех допотопных животных, совмещавших в себе, путем чудовищной громоздкости, черты чуть ли не всех будущих видов - и ходящих, и плавающих, и летающих.