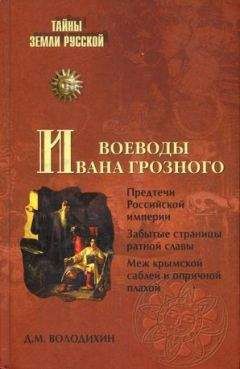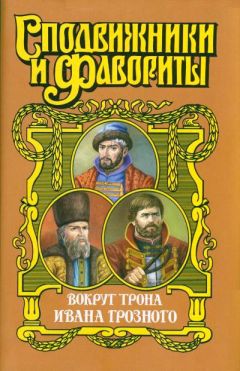Сергей Цветков - Единожды предав. Исторические повести
Вскоре после победы при Молодях была поставлена дипломатическая точка в переговорах с ханом по поводу Астрахани и Казани. По возвращении в Крым Девлет-Гирей еще пытался продолжить переговоры, писал царю, что ходил к Москве единственно для заключения мира, а ушел назад из-за того, что утомились кони, и просил отдать ему хотя бы одну Астрахань: «Тем спасешь меня от греха, ибо, по нашим законам, не можем оставить царств мусульманских в руках у неверных». Иван иронически извинился, что доселе, как мог, тешил своего брата Девлет-Гирея, да, видно, ничем не утешил, но ответствовал весьма неутешительно: «Ныне видим против себя одну саблю, Крым; а если отдадим хану завоеванное нами, то Казань будет вторая сабля, Астрахань третья, ногаи четвертая». Переговоры свелись к обсуждению условий размена и выкупа пленных.
Урок крымцы затвердили хорошо. В следующий раз они собрались потревожить русские пределы лишь два десятилетия спустя.
Князь Курбский
Сколь жалок, рок кому судил
Искать в стране чужой покрова.
К.Ф. Рылеев. КурбскийПоложение Курбского в нашей истории совершенно исключительно. Его неувядаемая на протяжении столетий слава целиком покоится на бегстве в Литву и том высоком значении при дворе Грозного, которое он приписал сам себе, то есть на предательстве и лжи (или, говоря мягче, вымысле). Два предосудительных поступка, моральный и интеллектуальный, обеспечили ему репутацию видного исторического деятеля XVI века, борца с тиранией, защитника святой свободы. Между тем можно смело утверждать, не боясь погрешить против истины, что, не вступи Грозный в переписку с Курбским, последний сегодня привлекал бы наше внимание не больше, чем любой другой воевода, принимавший участие в покорении Казани и Ливонской войне.
Андрей Михайлович Курбский происходил из ярославских князей, возводящих свое происхождение к Владимиру Мономаху. Ярославское княжеское гнездо делилось на сорок родов. Первый известный Курбский — князь Семен Иванович, числившийся в боярах у Ивана III, — получил свою фамилию от родовой вотчины Курба (под Ярославлем).
На московской службе Курбские занимали видные места: начальствовали в ратях или сидели воеводами в крупных городах. Их наследственными чертами были храбрость и несколько суровое благочестие. Грозный добавляет к этому еще неприязнь к московским государям и наклонность к измене, обвиняя отца князя Андрея в намерении отравить Василия III, а деда по матери, Михаила Тучкова, в том, что он по смерти Елены Глинской «многие надменные слова изрече». Курбский обошел эти обвинения молчанием, но, судя по тому, что он называет династию Калиты «кровопивственным родом», приписывать самому князю Андрею избыток верноподданнических чувств было бы, вероятно, неблагоразумно.
О всей первой половине жизни Курбского, относящейся к его пребыванию в России, мы располагаем крайне скудными, отрывочными сведениями. Год его рождения (1528) известен только по собственному указанию Курбского — что в последнем казанском походе ему было двадцать четыре года. Где и как он провел молодость, остается загадкой. Впервые его имя упоминается в разрядных книгах под 1549 годом, когда он в звании стольника сопутствует Ивану под стены Казани.
Вместе с тем мы вряд ли ошибемся, утверждая, что Курбский смолоду был чрезвычайно восприимчив к гуманистическим веяниям эпохи. В его походном шатре книга занимала почетное место рядом с саблей. Без сомнения, с самых ранних лет он обнаружил особое дарование и склонность к книжному учению. Но отечественные учителя не могли удовлетворить его тяги к образованию. Курбский передает следующий случай: однажды ему понадобилось отыскать человека, знающего церковнославянский язык, но монахи, представители тогдашней учености, «отрекошася… от того достохвального дела». Русский монах того времени и мог выучить только монаха, но не человека образованного в широком смысле этого слова; духовная литература при всей ее значимости все же давала одностороннее направление образованию. Между тем если Курбский чем-то и выделяется среди своих современников, так это именно своим интересом к светскому, научному знанию; точнее, этот его интерес был следствием влечения к за-ладной культуре вообще. Ему повезло: он встретился с единственным подлинным представителем тогдашней образованности в Москве — Максимом Греком. Ученый монах оказал на него огромное влияние — нравственное и умственное. Называя его «превозлюбленным учителем», Курбский дорожил каждым его словом, каждым наставлением — это видно, например, из постоянной симпатии князя к идеалам нестяжательства (которые, впрочем, и усвоены им были идеально, без всякого применения к практической жизни). Умственное влияние было гораздо значительнее — вероятно, именно Максим Грек внушил ему мысль об исключительной важности переводов. Курбский отдался переводческому делу всей душой. Остро чувствуя, что его современники «гладом духовным тают», не дотягивают до истинной образованности, он считал главной культурной задачей переводить на славянский язык тех «великих восточных учителей», которые еще не были известны русскому книжнику. Заниматься этим в России Курбский не имел времени, «понеже беспрестанно обращахся и лета изнурях за повелением царевым»; но в Литве, на досуге, изучил латынь и принялся за перевод античных писателей. Благодаря усвоенной в общении с Максимом Греком широте взглядов он отнюдь не считал, подобно большинству своих современников, языческую мудрость бесовским мудрствованием; «естественная философия» Аристотеля была для него образцовым произведением мысли, «роду человеческому наипаче зело потребнейшим». К западной культуре он относился без присущего москвичу недоверия, более того — с почтением, ибо в Европе «человецы обретаются не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философических учениях искусные». Впрочем, преувеличивать образованность и литературные таланты Курбского не стоит: в науке он был последователем Аристотеля, а не Коперника, а в литературе остался полемистом, причем далеко не блестящим.
Возможно, обоюдная страсть к книжной учености в какой-то мере способствовала сближению Грозного и Курбского.
Основные моменты жизни князя Андрея до 1560 года таковы. В 1550 году он получил поместья под Москвой в числе тысячи «лучших дворян», то есть был облечен доверием Ивана. Под Казанью он доказал свое мужество, хотя назвать его героем взятия Казани было бы преувеличением: он не участвовал в самом штурме, а отличился при разгроме выбежавших из города татар. Летописцы и не упоминают его в числе воевод, чьими усилиями был взят город. Иван впоследствии издевался над заслугами, которые приписывал себе Курбский в казанском походе, и ехидно спрашивал: «Победы же пресветлые и одоление преславное, когда сотворил еси? Егда убо послахоти тебя в Казань (после взятия города. — С.Ц.) непослушных нам повинити (усмирить восставшее местное население. — С.Ц), ты же… неповинных к нам привел еси, измену на них возложа». Оценка царя, конечно, тоже далеко не беспристрастна. Полагаю, что роль Курбского в казанском походе состояла в том, что он просто честно выполнил свой воинский долг, подобно тысячам других воевод и ратников, не попавших на страницы летописи.
Во время болезни царя в 1553 году Курбского, скорее всего, не было в Москве: его имени нет ни в числе присягнувших бояр, ни в числе мятежников, хотя, возможно, это объясняется тогдашним незначительным положением Курбского (боярский чин он получил лишь три года спустя). Во всяком случае, сам он свое участие в заговоре отрицал, правда, не по причине преданности Ивану, а потому что считал Владимира Андреевича никудышным государем.
К царю Курбский, кажется, никогда не был особенно близок и не удостаивался его личной дружбы. Во всех его писаниях чувствуется неприязнь к Ивану, даже когда он говорит о «беспорочном» периоде его правления; в политическом отношении царь для него — необходимое зло, с которым можно мириться, пока он говорит с голоса «избранной рады»; в человеческом — это опасный зверь, терпимый в людском обществе только в наморднике и подлежащий ежедневной строжайшей дрессировке. Этот лишенный всякого сочувствия взгляд на Ивана сделал из Курбского пожизненного адвоката Сильвестра и Адашева. Все их поступки по отношению к Ивану были заранее им оправданы. Напомню об отношении Курбского к чудесам, будто бы явленным Сильвестром царю во время московского пожара 1547 года. В послании к царю он не допускает и тени сомнения в сверхъестественных способностях Сильвестра. «Ласкатели твои, — пишет князь, — клеветали на оного пресвитера, будто бы он тебя устрашал не истинными, но льстивыми (ложными. — С.Ц.) видениями». Но в «Истории о царе Московском», написанной для друзей, Курбский допускает известную меру откровенности: «Не знаю, правду ли он говорил о чудесах или выдумал, чтобы только напугать его и подействовать на его детский, неистовый нрав. Ведь и отцы наши иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от зловредных игр с дурными товарищами… Так и он своим добрым обманом исцелил его душу от проказы и исправил развращенный ум». Прекрасный пример понятий Курбского о нравственности и меры честности его писаний! Недаром Пушкин называл его сочинение о царствовании Грозного — «озлобленной летописью».