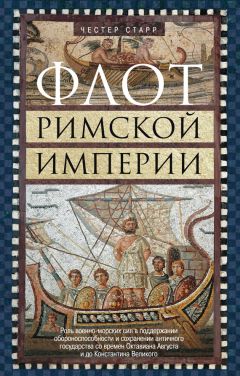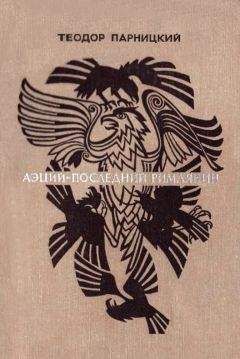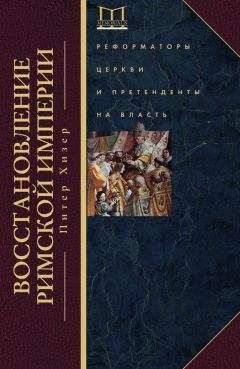Нина Молева - Дворянские гнезда
Дом у Никитских ворот – это и женитьба Суворова. Ее стало принятым связывать с желанием одного только отца полководца – Василий Иванович сам выбрал сыну невесту, княжну В. И. Прозоровскую, дочь отставного генерал-поручика. Почти бесприданница – за своими дочерьми Василий Иванович дал в несколько раз большее приданое, – «Варюта», по-видимому, обладала в глазах отца иными достоинствами. Молодая красавица была племянницей супруги П. А. Румянцева-Задунайского. Венчание состоялось, как утверждает предание, у того же Федора Студита, а недолгая совместная жизнь Суворовых началась в отцовском доме. Да и стоило ли заботиться о собственной крыше над головой, когда Суворов сразу по окончании медового месяца выехал в армию, а в 1775 году со смертью отца вошел во владение всем этим городским поместьем (Большая Никитская, 42).
И очередная загадка, сегодня попросту отвергнутая, хотя по-прежнему нерешенная. Могила Василия Ивановича в подмосковном Рождествене – могила или памятник, какие нередко ставили независимо от места захоронения? В каждый свой московский приезд Суворов служил панихиды на могилах отца и матери у Федора Студита – обстоятельство, хорошо памятное местному причту. Известный историк Москвы И. М. Снегирев, кстати сказать, бывавший в Рождествене, знал эти московские могилы и заботился об их состоянии. В его дневниках есть помеченная 3 июля 1864 года запись: «Священнику церкви Федора Студита Преображенскому указал могилу у алтаря родителей Суворова и советовал возобновить надгробия».
Да и при существовавшем в суворовской семье уважении к народным обычаям трудно объяснить, почему муж мог быть похоронен отдельно от горячо любимой жены и родителей. Вопрос остается открытым, тем более что могила Авдотьи Суворовой скрылась под асфальтом двора выходящего на Никитский бульвар дома.
Все в свете пустяки, богатство, честь и слава:
Где нет согласия, там смертная отрава,
Где ж царствует любовь, там тысяча наград, —
И нищий мнит в любви, что он как Крез богат.
Суворов-поэт – совсем особенная тема. Он пишет стихи не вообще, увлеченный их музыкой, ритмом, возможностью передать таким способом свои чувства. Для Суворова обращение к стихотворным строкам знаменует обстоятельства исключительные, эмоциональный взрыв. Его письма требуют расшифровки – слишком краткие, переполненные намеками и недомолвками. В стихах Суворов теряет обычную броню – живой, непосредственный, одинаково не скрывающий уныния или восторга, нетерпения или насмешки, всех оттенков своего нетерпеливого отклика на жизнь. И для него не существует разницы, на каком языке слагать рвущиеся из сердца строки. Румянцеву-Задунайскому по поводу победы под Туртукаем – на русском, австрийцу Моласу перед битвой под Нова – на безукоризненном немецком, принцу Нассау – на изящном французском. Но совершенно неподражаем Суворов в эпиграммах, которые не забывались ни окружающими, ни оскорбленными адресатами. Как мог не заметить Г. А. Потемкин-Таврический обращенных к нему, хоть и в частной переписке, строк:
Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет,
Одной ногой разит и друга, и врага,
Другою топчет он вселенны берега.
Как и в детстве, вставал Суворов в четыре часа утра, и, если случалось, что сон его все же одолевал, в обязанности слуги входило хоть волоком, хоть холодной водой поднять барина с постели. А постель ни мягкостью, ни удобствами не отличалась – тоненький накатничек едва прикрывал жесткие доски, на которые его клали. Потому и позже генералиссимусу достаточно было для сна охапки сена, на которую стелилась простыня, и старого плаща вместо одеяла. Шубы, перчаток, сюртука, тем более халатов Александр Васильевич вообще никогда не имел. В любое время года и в любую погоду сразу же надевал мундир, поверх которого под открытым небом накидывался плащ.
Зато в комнатах, как и в покоях родительских, любил «крутую жару» – с посетителей от непривычки семь потов сходило, а Суворов знай посмеивался: «Что делать! Ремесло наше такое, чтоб быть всегда близ огня. А потому я и здесь от него не отвыкаю». Больше всего не терпел, как выражался, «баловства» – сибаритства. Известны его слова: «Полковники расслабляют своих офицеров. Они сибариты, но не спартанцы, и, когда становятся генералами, подкладка остается все та же».
Никакой сытной еды с утра не давалось – несколько чашек чая, чем крепче, тем лучше. После завтрака (а не до него) полагалось полчаса заниматься своего рода гимнасткой или бегом. Сразу после разминки Суворов принимался за дела. С возрастом к просмотру бумаг прибавилось чтение – адъютантам полагалось читать вслух интересовавшие генералиссимуса книги или газеты.
Обед накрывался уже в девять утра – время, когда, отказавшись от дела, можно было шутить, болтать, еще лучше – читать собственные сочинения или стихи. В московском доме собиралась вся семья, на квартире полководца – не меньше двадцати – тридцати его сослуживцев. «К пустому одиночеству не приучены», – повторял Суворов. Людей он любил и за столом особенно внимательно присматривался к их настроениям и состоянию: нет ли какой нужды у кого, не требуется ли помощь. От правила не подавать сладкого и фруктов никогда не отступал – сам не ел и другим не советовал. Зато непременно выпивал большую рюмку тминной водки и стакан кипрского вина.
Хорошие вина и чай были единственной слабостью Александра Васильевича. На них он не жалел денег. С детства осталась и привычка к «красному» мартовскому пиву, которое по матушкиному рецепту зарубалось в лед. Но и в питье придерживался правила: «умеренность и норма». Если случайно рука Суворова тянулась за лишней рюмкой, должен был вмешаться адъютант. Причем всегда повторялся один и тот же разговор. Александр Васильевич спрашивал, по чьему приказу тот действует, на что следовал ответ: «Фельдмаршала Суворова». «Ему должно повиноваться», – объявлял полководец и послушно отставлял рюмку или тарелку. Сценка запоминалась и служила наглядным уроком для остальных офицеров, как и непременный послеобеденный сон, позволявший до ночи оставаться в хорошей форме. Сон считался и лучшим лекарством при всех недугах, от которых тяжело страдал Суворов, никогда не обращавшийся к врачам. Он любил повторять эпиграмму на врачей Лукилия, поэта времен Нерона:
Раз астролог Диафант напророчил врачу Гермогену,
Что остается ему девять лишь месяцев жить.
Врач, засмеявшись, сказал: «Девять месяцев? Экое время!»
Так говоря, он коснулся рукой Диафанта, и сразу
Вестник несчастия сам в корчах предсмертных упал.
Обрушившаяся на него еще в раннем детстве болезнь дорого обходилась Суворову, заставляя бороться со слабостью, с время от времени возвращавшимися болями, судорогами. Родные вспоминали: матушка, сколько могла, облегчала недуг сына, но и учила его превозмогать усталость и боль. Где шуткой, лаской, а где и строгостью. В памяти Суворова так и отложилось, что строгость – тоже проявление любви. Главное – научить человека не расслабляться, не жалеть себя, не печалиться над своими бедами: «пожалеть проще, чем на ум наставить».
Казалось, все шло к тому, что у младшего Суворова будет хорошая, образцовая семья. Хозяйственные навыки. Умение устраивать дом. Образ матушки, к месту погребения которой Василий Иванович вернется, выйдя в конце 1760-х годов в отставку. Видя слишком большую увлеченность сына службой, он сам позаботится о невесте для него. Слов нет, в сорок три года пора подумать о собственном гнезде!
Но после рождения дочери Варюта, как ласково звал ее муж, закружилась в вихре светских удовольствий. Молодая – почти на двадцать лет моложе супруга, – теперь уже богатая, принятая в свете и вынужденная постоянно пребывать в одиночестве. Память о матушке не давала Суворову возможности задуматься о супружеской неверности. В его представлении жена офицера всю жизнь была обречена ждать мужа, заботиться о доме, быть хозяйкой. Решение о разводе было мгновенным, хотя далеко не простым. Навсегда отобрав у матери дочь, Александр Васильевич долго колеблется, готовый искать хоть какую-то возможность совместной жизни. Растянувшиеся на годы попытки примирения не приносят результата: Варюта не хочет понять своей вины, тем более ограничивать себя домашними заботами.
Очередное увлечение Варюты приводит к окончательному разрыву. Суворов даже не хочет признавать своим родившегося в это время сына. Аркадий останется с матерью и только подростком будет признан отцом и взят им в последние суворовские походы. Но внутренней близости между ними так и не возникнет. Хоть отличала Аркадия Александровича Суворова-Рымникского и отцовская преданность военному делу, и дружба с солдатами, и редкая отвага. Погиб Аркадий через десять лет после смерти отца при переправе через ту самую реку Рымник, которая вошла в их фамилию: Суворов-младший бросился спасать не умевшего плавать своего кучера и, сломав руку, утонул.