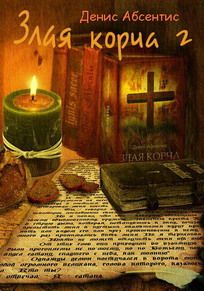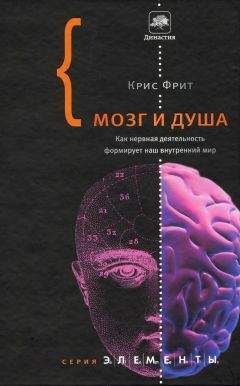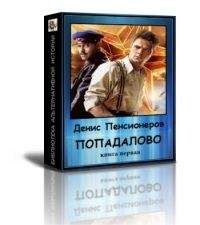Денис Абсентис - Злая корча. Книга 1. Невидимый огонь смерти
Действительно, еще в первой половине XX века спорынья в СССР была знакома практически каждому школьнику. Она была сырьем для лекарств, серьезной статьей экспорта, и из года в год в «Настольном словаре колхозника» публиковалась реклама: «Собирайте спорынью — черные рожки, появляющиеся на колосьях ржи. Заготпункты сельпо и райпотребсоюзов повсеместно покупают спорынью в любых количествах в сухом виде»[11]. «Колхозники и колхозницы, пионеры и школьники, собирайте спорынью!» — призывала газета «Социалистическое земледелие» осенью 1941 года[12]. Если сейчас о существовании спорыньи широкие массы и не догадываются, то в 1938 году академический журнал «Природа» писал:
Спорынья — это знакомая всем грибная болезнь злаков, выражающаяся в том, что вместо нормальных зерен в колосьях начинают появляться так наз. «рожки» темнофиолетового цвета. Последние, как известно, обладают большой ядовитостью, и заболеваемость от них населения «злой корчей», сопровождающейся головокружением, рвотой, судорогами, отмиранием конечностей, является также общеизвестным фактом[13].
Общеизвестным фактором это, правда, являлось тогда далеко не для любого крестьянина, но советских врачей, ученых да и уже не раз сталкивавшихся со спорыньей колхозников диагноз заболевания в Пон-Сен-Эспри не удивил бы. В те годы в Сибири подобные вспышки эрготизма еще случались. Но такие данные засекречивались органами госбезопасности, проводящими расследования о предполагаемом вредительстве, на западе о них не подозревали и не знают до дня сегодняшнего, да и в России они практически неизвестны. Сопровождались ли эти конкретные вспышки галлюцинациями, тоже неясно.
После выхода в 1989 году книги Матосян «Яды прошлого» пройдет еще два десятилетия. За это время появится ряд гипотез о связи спорыньи с различными историческими событиями и личностями. Некоторые из этих гипотез довольно спекулятивны, некоторые представляются вполне допустимыми и имеют серьезные основания. Предполагается, что спорынья повлияла на судьбу Наполеона, вызвала видения Жанны д’Арк, была причиной жестокости и смерти Оливера Кромвеля, состояния раздвоения сознания у Роберта Льюиса Стивенсона, поэтического вдохновения Жерара де Нерваля (двое последних принимали препараты спорыньи). С действием грибка стали связывать ликантропию, вампиризм, охоту на ведьм, откровения Иоанна Богослова, крестовые походы, движение квакеров. При этом, однако, появилось несколько книг и статей, пытающихся отрицать влияние спорыньи на пляски св. Витта, не говоря уж об итальянском тарантизме[14]. А о возможности, скажем так, «культурологического влияния спорыньи», о корнях, к примеру, таких испанских танцев, как муньейра в Галисии, хота в Арагоне и зортзико в Стране Басков никто вообще так и не задумался, несмотря на наличие в этих краях Пути святого Иакова — места сбора эрготиков со всей Европы.
И хотя известно, что в Европе, в отличие от России, в прошлые века вокруг постоянного отравления спорыньей возникла развитая инфраструктура, и смертельный огонь св. Антония превратился в большой бизнес церкви и учрежденных папством соответствующих орденов, но и сегодня связь многих исторических событий с галлюциногенным грибком часто воспринимается как маргинальная точка зрения. А массовые галлюцинации от эрготизма на протяжении тысячелетия и вовсе представляются курьезом.
Однако регулярных галлюцинаций не могло не быть при постоянных эпидемиях эрготизма. А эпидемии не могли не быть постоянными, поскольку основной пищей населения был хлеб. И следы этих эпидемий заметны не только в средневековье, Возрождение, Реформацию и Новое время. Сами события, являющиеся вехами этого условного разделения эпох, иногда могли были быть спровоцированы действием спорыньи.
Знакомо же человечество с этим грибком с гораздо более древних времен, чем это обычно представляется.
Глава 1
Элевсинское пиво
То будет ли Пифийский брег,
Иль луг светозарный,
Где вечных тайн пестуют людям цвет святой
Могучие богини, где
Ключ златой уста смыкает элевсинского жреца?
Софокл. Эдип в КолонеИз всех обрядов античного мира наиболее важными представляются элевсинские мистерии — обряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны, которые проводились ежегодно в Элевсинев Древней Греции. Расположен Элевсин в Западной Аттике, примерно в 20 км к западу от Афин. Элевсинское святилище было больше чем просто храм. С течением времени оно превратилось в целый город, соединенный с Афинами «священной дорогой», окруженный стенами и башнями, части которых сохранились до наших дней. Систематические раскопки здесь ведутся с 1882 года. К югу от Телестерия, храма Деметры, открыт небольшой музей, состоящий из пяти залов.
Никакие другие эллинские мистерии не достигли такой славы, как элевсинские. Паломники со всей Греции приезжали для участия в них. «Блажен смертный, которому удалось узреть мистерии! — восклицает автор древнегреческого гимна. — Но тот, кто не прошел посвящение и не исполнил ритуалы, после смерти не обретет блаженства в темных жилищах иного мира». Деметра, порождающая хлеб, добившаяся у богов возвращения своей дочери из подземного царства Аида, обладала, согласно элевсинскому культу, властью высвобождать из мрачного могильного подземелья всех посвященных — для них было возможно возрождение. Пиндар, один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции, говорил в своих одах (V век до н. э.) о смерти, о последующем земном рождении, о том, как элевсинские таинства позволяют осмыслить метаморфозы между двумя жизнями и облегчают их. Спокойствие и уверенность перед лицом смерти даровал посвященным элевсинский культ. Забота об устройстве праздника посвящения входила в обязанности высшей афинской администрации. Мистерии праздновались в Элевсине на протяжении двух тысяч лет и были уничтожены христианами в конце IV века. Сожжение святилища и запрещение мистерий ознаменовали официальный конец язычества.
Большая часть обрядов мистерий никогда не была зафиксирована письменно, и поэтому они остаются предметом спекуляций и домыслов. Интерес к элевсинским тайнам возродился в XIX веке, отчасти после опубликования ранее неизвестных орфических гимнов в честь греческих богов с некоторыми подробностями, отсутствующими в общеизвестных «гомеровских» гимнах. Многие хотели увидеть в мистериях некую потерянную истину и сакральную тайну, пытались прочувствовать, что же именно скрывалось за внешними обрядами, и перечитывали описание Порфирия:
В венках из мирт мы входим с другими посвященными в сени храма, все еще слепцами; но Иерофант, ожидающий нас внутри, скоро раскроет наши взоры. Но прежде всего, — ибо ничего не следует делать с поспешностью, — прежде мы обмоемся в святой воде, ибо нас просят войти в священное место с чистыми руками и с чистым сердцем. Когда нас подводят к Иерофанту, он читает из каменной книги вещи, которые мы не должны обнародовать под страхом смерти. Скажем только, что они согласуются с местом и обстоятельствами. Может быть, вы подняли бы их на смех, если бы услыхали вне храма; но здесь не является ни малейшей наклонности к легкомыслью, когда слушаешь слова старца и смотришь на раскрытые символы. И мы еще более удаляемся от легкомыслия, когда Деметра подтверждает своими особыми словами и знаками, быстрыми вспышками света, облаками, громоздящимися на облака, все то, что мы слышали от ее священного жреца; затем, сияние светлого чуда наполняет храм; мы видим чистые поля Елисейские, мы слышим пение блаженных…[15]
Догадки относительно таинств будоражили поэтов. Гете, например, воплотил их в нескольких сценах «Фауста». Другие воспринимали элевсинские мистерии, как никчемные древние суеверия, имеющие лишь объективный — сейчас мы скорее сказали бы культурологический — интерес. В. Г. Белинский в письме Боткину выразился по поводу статьи Уварова достаточно жестко:
Короче: это был мистицизм древности. Меня поразило в статье то, что практический, здравомыслящий Сократ отказался участвовать в Элевзинских таинствах и был к ним вообще холоден, тогда как fou sublime, {возвышенный безумец (франц.). — Ред.} фантастический романтик Платон благоговел перед ними. Вообще, мне кажется, Элевзинские таинства имеют только ученый, чисто объективный интерес, а со стороны субъективного интереса — они не стоят выеденного яйца[16].
Но ни духовный, ни скептический подход долгое время не могли помочь в понимании того, что же все-таки происходило во время мистерий. В конце XIX века религиозный философ Дмитрий Мережковский в романе «Юлиан Отступник» представил спор по поводу сходных мистерий в Эфесе врача Орибазия, считающего мистерии иллюзией, оптическим обманом, и Максима Эфесского. На упреки Орибазия: «вы из фонаря бросаете отражения сквозь раскрашенные стекла на белый дым ароматов — и ученик воображает, будто бы перед ним видения богов» иерофант отвечает: