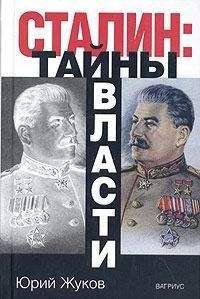Юрий Жуков - Сталин: арктический щит
Публикуя в 1876 году описание своей двухлетней экспедиции, Юлиус Пайер поспешил объявить о своем категорическом выводе, к которому он пришел. Посчитал принципиально невозможным плавание как Северо-Восточным, так и Северо-Западным проходами. «Давно выяснено, — указывал он, — что китайский чай, японский шелк и пряности с Моллуков[5] никогда не приплывут к нам вместе со льдинами. Нынче никто больше не верит в коммерческую ценность проходов»7.
Пайер слишком поспешил. Всего через три года Норденшельду удалось доказать обратное.
Как и многие путешественники, Норденшельд начал с рекогносцировки, повторив уже пройденный в 1874 году англичанином И. Виггинсом путь[6]. В июле 1875 года на паруснике «Прёвен» он отправился в плавание из норвежского Тромсё. Прошел вдоль западного побережья Новой Земли и с большим трудом, ибо не знал ледовой обстановки по маршруту, пробился в Карское море через Югорский Шар — единственный пролив, оказавшийся в тот момент открытым. Через четверо суток был у Ямала, а 15 августа увидел берега Сибири. Там, неподалеку от устья Енисея, Норденшельд открыл остров, названный в честь спонсора островом Диксон.
«Я надеюсь, — прозорливо писал позднее исследователь, — что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обско-Енисейским речным бассейном, но и между Европой и Северным Китаем»8. Норденшельд покинул «Прёвен» в устье Енисея и самостоятельно, по суше, через Сибирь и Урал, добрался до российской столицы.
Чиновный Петербург по-разному отнесся к походу шведского ученого. В Министерстве иностранных дел отметили, что результаты его путешествия «больше всего касаются России и могут приобрести значение для нашей торговли и промышленности». И добавили: «успех, достигнутый профессором Норденшельдом, есть один из наиболее выдающихся географических подвигов последнего времени». Однако морской министр, С.С. Лесовский, занял негативную позицию. «Совершенное Норденшельдом плавание, — заметил он, — весьма смелое и удачное предприятие… которое едва ли может стать примером для последующих плаваний в том же направлении с коммерческими целями. По климатическим условиям нельзя ожидать установления в пройденной Норденшельдом части Ледовитого океана правильного мореплавания»9.
В следующем году Норденшельд повторил разведочное плавание к Енисею, а в 1878 году наконец отважился на поход, который и стал главным в его жизни, прославил его. На этот раз — на средства, предоставленные шведско-норвежским королем Оскаром II, шведским богачом О. Диксоном и российским купцом А.М. Сибиряковым. На специально построенном для плавания во льдах деревянном пароходе «Вега», капитаном которого стал лейтенант шведского флота А. Паландер.
22 июня «Вега» вышла из Карлскруны, 21 июля покинула Тромсё, а 1 августа прошла Югорским Шаром. Беспримерное плавание началось. Спустя пять дней судно достигло Диксона, где пополнило запасы угля, и отправилось в неизвестность. На восток.
20 августа экспедиция легко миновала мыс Челюскин и оказалась в тех водах, которые еще ни разу не достигало ни одно судно, следовавшее из Европы. Столь же легко, даже просто, оказалось доплыть до устья Лены и далее, через пролив Дмитрия Лаптева, войти в Восточно-Сибирское море. 3 сентября Норденшельд и его спутники находились, уже вблизи устья Колымы. Еще сутки-двое, и они смогут достичь заветной цели. Но лишь в том случае, если не встретят сплоченных непреодолимых льдов. К их несчастью, именно так и произошло. В Колючинской губе, всего в трехстах километрах от Берингова пролива. Здесь-то и пришлось путешественникам зазимовать.
Только 18 июля следующего 1879 года «Вега» освободилась из ледового плена и всего через два дня подошла к мысу Дежнева. А 2 сентября пришвартовалась в порту Нагасаки. Задача была решена. Норденшельду удалось то, о чем три века грезили сотни капитанов многих стран. Практически за одну навигацию он преодолел Северо-Восточный проход. Доказал, что этот северный путь вполне можно использовать в любых целях. И прежде всего в коммерческих.
Так и не суждено было сбыться пророчеству Ломоносова, уверенно, с пафосом утверждавшего в поэме «Петр Великий»:
Какая похвала Российскому народу
Судьба дана — протти покрыту льдами воду.
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнёт в Америку держава…
Честь проложить новый путь от Белого моря на восток до Америки выпала на долю колумба шведского.
3
Между тем привилегии, данные переселенцам на Мурмане делали свое дело. К 1881 году на западном его побережье существовало уже 15 поселков, в которых жили 790 норвежцев и финнов: Ура, Порт-Владимир, Западная Лица, Титовка, Цып-Наволок, Вайда-Губа, другие. Но на восточном, где селились преимущественно русские и карелы, возникло только четыре поселка всего с 90 жителями: Гаврилово, Голицыно, Териберка, Порт-Владимир, Восточная Лица. Столь значительный рост населения заставил в 1883 году восстановить Колу в ее прежнем статусе. Благодаря тому в городе, чуть ли не обезлюдившем, появились десятки чиновников. Те, кто служил в полицейской управе, казначействе, почтово-телеграфном отделении, больнице на шесть коек, двухклассном училище, при амбарах для хлеба и соли. И население Колы вскоре увеличилось чуть ли не в полтора раза.
Возникновение на Мурмане постоянных поселений, имеющих, ко всему прочему, хорошие причалы и склады, способствовало значительному росту числа русских промышленников, направлявшихся туда по весне для лова рыбы — преимущественно трески, боя тюленей, моржей, белых медведей. В свою очередь, такая сезонная миграция, составлявшая в среднем около трех тысяч человек, породила острейшую нужду в открытии регулярного сообщения между беломорскими городами и селами, где собственно проживали поморы, и северным побережьем Кольского полуострова. И для того в 1870 году было основано Общество Беломоро-Мурманского пароходства, взявшее на себя обязательство совершать двенадцать рейсов в промысловый сезон. Однако всего за три навигации все его небольшие, со слабыми машинами, старенькие суда, к тому же с плохо обученными командами и капитанами, не знакомыми с условиями плавания в тех водах, погибли одно за другим. Потому-то Общество, обанкротившись, прекратило в 1874 году существование.
Все же необходимость в регулярном морском сообщении на Севере оставалась столь насущной, что уже в следующем году, с весьма значительным финансовым участием государства, было образовано Товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства. Две его линии охватывали Белое море, но третья связала губернский центр с норвежским портом Вардё. Поначалу на ней ходил изрядно потрепанный временем пароход «Онега». Он совершал за навигацию 13 каботажных рейсов. С марта — между Вардё через Екатерининскую гавань в Восточную Лицу, с июня до поздней осени — далее до Архангельска, заходя в восемь поселков. Позже Товарищество приобрело только что сошедшее со стапелей судно «Ломоносов» — 900 тонн водоизмещением и со скоростью 11 узлов. Оно позволило делать уже 27 рейсов, то есть каждую неделю, посещая по пути 18 поселков.
Только тем свою деятельность Товарищество не ограничивало. В Варангер-фьорде[7] для местных перевозок держало стотонное судно «Преподобный Трифон». Два раза в году, весной и осенью, один из его пароходов начиная с 1860 года ходил на Новую Землю, куда стараниями архангельского губернатора в 1877 году переселили 90 ненцев, обосновавшихся в трех становищах: Малые Кармакулы и Белушья Губа — на западном побережье южного острова, Маточкин Шар — у восточного выхода из пролива. А с 1895 года открыло четвертую линию — от Архангельска до устья Печёры, которую обслуживал пароход «Норденшельд». Наконец, купило сухогруз «Граф Литке», регулярно доставлявший из Англии уголь.
Развивали промыслы не только русские, но и норвежцы. Пользовались, правда, тем, что не существовало общепризнанных международных соглашений, устанавливавших морские экономические зоны и границы территориальных вод (условно определявшихся с молчаливого согласия всех стран в 3 мили — дальность пушечного выстрела с берега). Потому-то норвежцы и полагали Баренцево море открытым для себя при рыбной ловле, бое зверя. Промышляли не только у берегов Новой Земли, у острова Колгуева, но даже в горле Белого моря.
Чтобы хоть как-то отреагировать на многочисленные жалобы поморов, время от времени появлявшиеся в печати, Министерство внутренних дел в 1886 году передало в распоряжение архангельского губернатора пароход «Мурман». Предназначило его для контроля Кольским исправником соблюдения установленного порядка ведения промыслов и препятствования нарушениям закона со стороны судов, идущих под любым флагом. К сожалению, маломощная, всего в 30 лошадиных сил, машина «Мурмана» так и не позволила ему выполнить порученное весьма важное и ответственное задание.
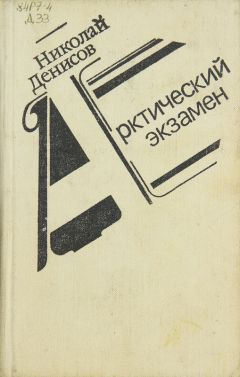

![Редьярд Киплинг - Отважные мореплаватели [Отважные капитаны]](/uploads/posts/books/25655/25655.jpg)