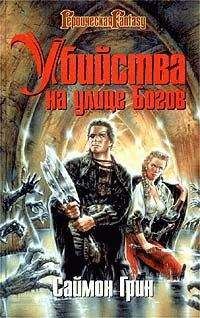Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
Юзеф-Игнаций Крашевский, глубоко чувствовавший и передавший в слове облик Вильно в разное время (подробнее см. ниже, в специальном разделе), посвятил в своем описании города отдельную главку студентам («Akademik»), в числе которых и он был в 1829–1830 гг. Студента-«академика» считал он одним из наиболее характерных виленских персонажей: «Не было в Вильно уголка, где бы не встретился с „академиком“; в любое время дня и года заполняли они улицы, променады, встречались в городе и за городом, в любом доме, на каждой лестнице. А если не было его видно, то было слышно: его голос, повторяющий лекции профессора; а вот и сам он — уселся с трубкой на подоконнике. Все виленское население имело к „академику“ какое-то особенное уважение: ведь он так молод, часто шалопай, озорник, нахал, насмешник, даже назойлив, — но сердце имеет добрейшее и характер благородный. Он первым вступался за бедного… последним куском хлеба делился с неимущим товарищем… Жилище „академика“ обычно в переулках и на задах… В квартире „академика“ бывало как в молодой голове: много беспорядка, подготовка к жизни, материалы для всего, порядка меньше всего… Под кроватью, на столиках, на кроватях все хозяйство: книги, обувь, секстерны [тетради с записями. — В. Б.], одежда, флейта или скрипка, череп, бутыль с водой, вакса, стакан недопитого чая, поломанный чубук, рассыпанный табак, пустой мешочек. Посреди комнатки забрызганный чернилами стол, на нем грязные карты и кусочек мела. В камине кучка угля и погасший самовар. На полках, развешанных по стенам, — книги»[36]. В записках Крашевского рассказывается и о том, как проходят лекции профессоров, о подготовке к экзаменам, даются яркие типы «академиков»; словом, это настоящая «энциклопедия» студенческого Вильно. Крашевский одним из первых польских писателей XIX века стал описывать интерьер, который соотносил и соразмерял с самим человеком, делал интерьер художественным средством изображения персонажа, тем самым одухотворяя предметы вещного мира[37]. Сходный прием применяется им также и к характеристике города и его жителей (об этом далее).
Филоматы-филареты составляли географические статистические описания, в которые входила характеристика населения, состояния экономики и просвещения в отдельной парафии (приходе). Для этого была разработана специальная инструкция по типу принятых в различных научных обществах и кружках; таким образом члены студенческих организаций участвовали в создании общего описания края и его потребностей[38]. Филоматы и в литературном творчестве охотно воплощали исторические, легендарные и поэтические толкования виленской и литовской топонимики — мы видим это в балладах Яна Чечота, Томаша Зана и Адама Мицкевича (см. ниже). Литературное творчество было важной частью их жизни. На филоматских собраниях читались оригинальные произведения и переводы, доклады, критические разборы, — это было необходимым условием. Конечно же, и веселились: праздновали именины с пением и чтением многочисленных посвящений, дружеских посланий. Общим любимцем был сочинитель веселых и грустных песенок (на манер белорусских народных) Ян Чечот. Тогда же у Мицкевича проявился дар импровизатора.
К этой среде тяготели молодые художники, к примеру Валентий Ванькович, который учился в университете у Яна Рустема и участвовал в 1820 г. в Первой университетской выставке. Он дружил с филоматами и писал их портреты, которые представляют «иконографическую ценность» (о них можно прочесть у исследовательницы И. И. Свириды)[39]. Ванькович известен более всего по его позднейшему портрету Мицкевича на горе Аюдаг в Крыму, а его пейзаж «Вид Вильно при закате» висел в парижской квартире польского поэта.
Примерно к тому же времени относится и зарождение литовского национального самосознания, начало его формирования. У истоков этого движения Симонас Даукантас (Шимон Довконт), литовский историк и литератор, а тогда студент и, по всей вероятности, кандидат в одно из обществ: возможно, он и лично был знаком с Мицкевичем, с которым одновременно учился на одном факультете[40]. Начиналось оно как движение за употребление литовского языка не только в быту (как было в деревнях), но и в творчестве, науке (где обязательным был польский), за то, чтобы не только говорить на литовском языке, но и писать на нем. Даукантас был здесь последовательным до конца и даже отказался от карьеры. По этой причине он (пожалуй, первым) и его единомышленники оказались в ситуации двойной оппозиции: и к Российской империи, и к Польше (об этих проблемах писал Томас Венцлова в цитируемой здесь работе)[41]. Среди сторонников этого движения можно назвать не только студентов, но также и их единомышленников — литераторов и деятелей культуры Симонаса Станявичюса, Мотеюса Валанчюса, Киприонаса Незабитаускиса, Дионизаса Пошку, Людвика Юцевича (Юцявичюса), Антанаса Клементаса[42].
В университете были предприняты также попытки организовать кафедру литовского языка — правда, пока в одном ряду с кафедрами древних или восточных языков. Инициатором в этом выступил Казимеж Контрим, адъюнкт и библиотекарь университета, близкий к филоматам, а также к масонам, личность яркая и интересная[43]. Находили они поддержку и у профессоров — Иоахима Лелевеля, Игнация Даниловича, Игнация Онацевича, Ивана Лобойко и др.
Студенческая молодежь осознавала себя поколением действия, — такой образ создан и Мицкевичем в «Оде к молодости» (не без влияния масонских идей). Облик виленского студенчества уже тогда начинал приобретать легендарные черты.
Первые их организации были тайными (шубравцы, филоматы), но очень скоро они включали большую часть университетской молодежи — филареты и «променистые» («лучистые»). Один из участников, Игнаций Домейко, например, вспоминал о тайных организациях, конспирации и т. п. как о своеобразной «необходимости времени» во всей Европе и в России[44]. В своих записках он изложил краткую историю виленских студенческих обществ и немало писал об их атмосфере, соединявшей в себе серьезность и веселые развлечения: «Тогда собирались группы филаретов… для чтения своих литературных и научных работ; меж собою были они ближе, чем с теми, кто к Обществу не принадлежал, помогали друг другу и в учебе, и в быту; искали друг друга в свободное время, в часы развлечений и прогулок, в которые, пожалуй, еще лучше проявлялись дух и характер Общества, чем в заседаниях»[45]. «Мы все между собой были коллеги и братья»[46].
3. Томаш Зан и «Лучистые» (Promieniści)
Наряду с учебной стороной жизни студентов следует иметь в виду и другую, не менее важную для них и тесно связанную с первой, и может быть, более известную горожанам. Здесь главенствуют элементы игры, шутки, розыгрыша, веселья: все это было значительной и важной частью их кружковых, литературных, а не только чисто дружеских отношений. Разыгрывались порою, может быть, и не совсем безобидные шутки — над офицерами русской армии, составлявшими также весьма колоритную группу в виленском городском пейзаже. Отношение студентов к офицерам (которое поддерживалось многими горожанами), учитывая их патриотические и нравственные устремления, конечно, было враждебным (примешивались и элементы традиционной борьбы штатских и военных). Свою роль играло и то, что некоторые из блестящих молодых офицеров, появлявшихся на всех увеселениях, пользовались благосклонностью не слишком патриотичной части виленских паненок. Чечот в письме к Мицкевичу (5.12.1821) заметил, что «поляки из-за москалей пошли вниз, а польки-шляхцянки — идут в гору!» (т. 3, 292). Об этом говорит и Мостицкий в упомянутой книге: «Не раз переходили они всякие границы, очерченные патриотическим долгом, в погоне за „блестящим и прекрасным мундиром“ генеральским, хотя бы под ним билось злое и вражье сердце»[47]. Станислав Пигонь (полонист, профессор университета в начале XX в.) объяснял эту «атмосферу испорченности» «отсутствием общественного мнения», которое осуждало бы подобное поведение[48]. В эпизоде на маскараде, описание которого он приводит по неопубликованному письму Чечота к Малевскому 30 января 1822 г., Пигонь видит нарастание протеста молодежи против недостойного поведения земляков.
Шутки над офицерами очень радовали сочувствовавших студентам горожан; вот эпизод, о котором рассказывают многие мемуаристы разных поколений. На одном из маскарадов студенты изобразили портного с гвардейским мундиром, приготовленным для заказчика; к мундиру бечевкой за носы и уши были привязаны три «паненки» (переодетые же студенты, конечно), а к спине «портного» был прикреплен плакатик: «Za mundurem panny sznurem» («за мундиром девицы вереницей»; здесь маскарадная сцена реализует метафору: «шнуром» привязаны и «шнуром» — т. е. цепочкой — следуют). Когда же весьма задетые этим выпадом офицеры попытались отомстить и нарядили кого-то из своих «академиком» с ослиными ушами, проворные студенты быстренько приклеили на спину этому фальшивому офицерскому студенту плакат: «Кандидат в гвардию»[49].