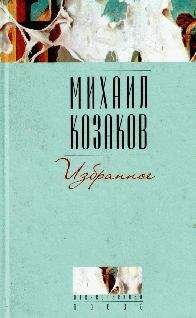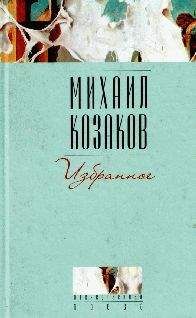Артем Драбкин - «А зори здесь громкие». Женское лицо войны
Первое время было нужно понаблюдать, когда они на завтрак идут, когда караулы разводят — узнать их распорядок дня. Иногда идет — я его каску вижу. Целюсь, выстрел — и мимо! А финн прячется и лопатку саперную выставит из окопа — промазала, мол! А если попадешь (и не однажды такое было), никто не машет лопаткой из окопа, тишина на той стороне. Личный счет снайпера я не вела, иногда выставляли вместе со мной наблюдателя смотреть, попала или нет. Мне как-то не особо интересно было. Говорили, что попадала и убивала, а сколько — я сама счет не вела. Приятного мало, когда надо на нейтралке без движения несколько часов лежать. Иногда после выстрела я переползала на другое место, иногда оставалась на том же месте — ведь не знаешь, заметили тебя после выстрела или нет. Может, поползешь на другое место и тут тебя обнаружат?
Линия фронта была стабильная, и от нечего делать и наши, и финны часто кричали друг другу что-нибудь — пропаганду или просто переругивались. Мой муж был командиром полковой разведки, и финны ему орали: «Ну, Смаркалов, если ты нам попадешься, ремни на спине будем у тебя резать! Не суйся к нам!» Финны же наших в плен тоже брали, и перебежчики русские у них были… Поэтому финны знали фамилии наших командиров и напрямую к ним обращались в своей агитации.
К политрукам у нас тогда хорошо относились. Политическая подготовка, да и все прочее, — это же было наше все! Как же без этого? Надо было кому-то этим заниматься! Не было у нас такого в мыслях, что политруки в тылу отсиживаются, пока мы кровь проливаем. А с особистами мне вообще не пришлось иметь дела на войне.
Однажды было такое: я вхожу в землянку комбата, а там в углу за плащ-палаткой сидела девушка, я даже не знаю, или финка или наша, — вела по рации пропаганду по-фински. Она как раз передавала свою агитацию, а я тихонько говорила с комбатом. А ужин уже прошел! В этот момент в землянку вошел солдат, который в карауле стоял, и говорит громко: «Ребята, пожрать мне оставили?» Ему все орут: «Тише!» Но поздно уже было. На следующий вечер финны нам кричат из своих окопов: «Рюсся, вы своим солдатам пожрать-то оставляйте!» Мы потом долго смеялись. Конечно, финны не все по-русски говорили, но нам кричали на нашем языке.
Незадолго до моего ранения произошел вот такой эпизод — как предупреждение мне. В 6 часов утра по нас финны открыли огонь из минометов и орудий. Били они по нас очень сильно, поставили дымовую завесу, и от меня потребовали открыть ответный огонь. Я побежала к своему миномету, а мой миномет разобран для чистки! Побежала к другому — а там командир расчета в разведку ушел. Били по нас сильно, осколки летели рядом, но только один осколок царапнул мне левую ногу. Это было как будто предупреждение, что я потеряю ногу. И верно, потом меня ранило в эту же ногу. Слава богу, что вообще не убило, а только пятку разворотило!
Это случилось 17 мая 1943 года на высоте Мертуть, когда я получила приказ подавить финские огневые точки, бьющие по нашим позициям. Я только открыла огонь, пару мин выпустила, и тут нас накрыло. Они в нас попали, когда я командовала «Огонь!» Среди моих солдат не было никого, кто понимал бы что-то в медицине. Жгут надо было наложить выше колена, а они наложили ниже, в результате кровотечение не остановили. Вынесли меня на плащ-палатке до КП батальона, и пока они меня донесли, я уже в луже крови была. Дальше — больше. Вызвали для меня машину, чтобы в полковую медсанчасть везти, а ее все нет и нет. Повезли меня на повозке, запряженной лошадью, и только по пути встретилась машина. Привезли в полковую санчасть, а там комполка стоит, замкомполка. Первый вопрос командира полка: «Задание выполнила?» Я в ответ: «Снимите жгут!» Его же можно только 45 минут держать, а он у меня был уже больше часа! Он опять: «Задание выполнила?» В результате я потеряла сознание и уже не помню, как жгут снимали, как рану обрабатывали. Очнулась я только в медсанбате. Так как рана была засыпана торфом (торф в отличие от песка из раны не вымыть), мне ампутировали ногу. Привели меня в чувство, только когда надо было делать операцию по ампутации. На встречах после войны я нашему бывшему комполка напоминала об этом эпизоде — ветераны нашей дивизии часто собирались в Ленинграде. Писарь нашего полка после войны стал директором ресторана «Восток» и всех нас туда приглашал.
Наградили меня за этот бой только в 1951 году орденом Отечественной войны 2-й степени. После этого ранения я полтора года провела в госпиталях, мне сделали пять операций. Казалось бы, надо просто ногу отрезать — и все. Так нет! В полковой санчасти мне ногу ампутировали и повязку наложили. Тогда они еще по-простому делали операции, просто отрезали конечность, и все. Это уже в 1944 году стали по Пирогову делать, поднимать кожу, затем культю этой же кожей оборачивать и зашивать. А тогда, в 1943 году, мне просто отрезали ступню, напихали туда тампонов и перевязали. Это все пропиталось кровью, присохло к ране, и когда мне стали в полевом госпитале все это снимать, чтобы новую перевязку сделать, — вы не поверите: я одному санитару рукав халата оторвала от боли, второму руку стиснула так, что остались синяки. То ли они новый тампон положили в рану, то ли старый забыли, но что-то в ране оставили. Потом меня эвакуировали в Ленинград и оттуда через Вахруши в Киров.
До Кирова мы добрались только через месяц, и у меня открылся свищ. Поднялась температура. Хирург сделал операцию под местным наркозом. Я чувствовала, что он там что-то долго-долго скоблил в ране. Через какое-то время опять свищ, новая операция, уже под общим наркозом. Я у хирурга стащила свою историю болезни со стола и прочитала, что у меня, оказывается, марля вросла в мышечные ткани, и поэтому он там так долго скоблил. Марля там уже вся сгнила. Он опять отскоблил все не до конца, и поэтому опять заражение пошло. Тот хирург меня в четвертый раз на операцию положил. Перед четвертой операцией приехала моя мама, и на этого хирурга страшно накричала: «Сколько можно мою дочь резать?» Вообще, у нас в госпитале он всем по несколько раз делал операции. Поскольку моя мама там подняла шум, он вроде бы в четвертый раз удалил зараженные ткани окончательно, но малую берцовую кость не вынул. Как позже выяснилось, под наркозом во время операции я страшно ругала хирурга. Через какое-то время тот же хирург оперировал девушку, раненную в голову, у нее осколок был в мозгу. Так вместо того, чтобы осколок вытащить, этот хирург его туда в мозг вдавил, и она тут же умерла. Врач-терапевт сделала хирургу замечание, то есть сказала: «Что вы делаете?!! Вы же ее убили!» Всего разговора между ними я не знаю, но наутро проснулись — хирурга нет, старшей сестры нет, сестры-хозяйки тоже нет. Они втроем сбежали. Оказывается, этот хирург был вредитель, поэтому он все время мне заражение продлевал и всех остальных тоже так ужасно оперировал!
Я не носила длинные волосы, но и не совсем короткие волосы были. Мы, девчонки, друг другу помогали, волосы расчесывали, заплетали. Когда меня ранили и я была в госпитале в Ленинграде, вышло постановление: если женщина раненая сама не может ухаживать за своими волосами, то тогда ее обривали наголо, чтобы насекомые не заводились. Так что в Кирове мы уже знали: если девчонку раненую привозят обстриженную, то, значит, она из Ленинграда.
После этого нас эвакуировали дальше, в город Коминтерн. В том госпитале профессора меня посмотрели и сказали, что нужна еще одна операция на ноге и что больше общего наркоза давать мне нельзя. А во время общего наркоза мне Смерть снилась — такая, как ее в книгах рисуют, худющая, — и говорила мне: «Ты сейчас умрешь!» Я протестовала изо всех сил, просыпалась и спрашивала всех: «Я уже умерла?» Все эти общие наркозы мне сильно посадили сердце, и один профессор заметил: «Дочка, лет пять жизни эти наркозы у тебя точно отняли». Когда я теперь лежу в больнице и мимо меня проводят практикантов, врач им всегда говорит: «Послушайте сердце этой больной». Я настолько наркоза наглоталась за войну, что, когда эфиром у зубного в 70-е годы промывали полость рта, я сразу отключалась.
На последнюю, пятую операцию мне дали спинномозговой наркоз, в позвоночник всадили иглу, и я перестала ноги свои чувствовать. Что стол деревянный, что ноги — на ощупь одно и то же. А операционная большая, на соседнем столе раненой девушке на бедре делают операцию. Хирург ей мясо режет, как на кухне филе свиное. Отрезал ей кусок и так же небрежно, как на кухне кошке куски мяса на пол бросают, кинул кусок бедра этой девушки в таз. Мне аж поплохело от такого зрелища! Я отвернулась и не стала больше смотреть. Перед моими ногами ширмочку поставили, и я сама не видела, что и как мне делали. Я настояла на том, чтобы вынули малую берцовую кость, чтобы была возможность ходить.[2] Неделю после операции я должна была лежать на спине, без движения, что было достаточно сложно.
Муж мой, после того как я по ранению ушла из дивизии, два раза еще был ранен и один раз в штрафбат угодил за невыполнение боевого задания. Это случилось как раз тогда, когда я лежала в полевом госпитале. Он меня навестил два раза и на третий раз сказал только, что придет теперь не скоро. Про штрафбат не обмолвился ни словом. Сказал только, что будет сильно занят боевой подготовкой, и все. Потом мне моя подруга прислала письмо в госпиталь: «Твой Ваня там же, где его заместитель Зуев». А Зуев как раз в штрафном батальоне был. Зуев туда отправился за то, что не привел «языка». Мой муж тоже туда попал за несколько неудачных поисков — один раз его разведгруппа взяла «языка», но пока тащили, его убили — приволокли, а он уже мертвый. Второй, третий раз сходили безуспешно — и все, в штрафбат. Там Ваню ранило, и после этого он вернулся, попал в лыжный батальон. После своего ранения он написал моей двоюродной сестре, та пришла к нему в медсанбат в гости. Он спросил мой адрес и стал почти каждый день писать мне письма. Врет, но все равно пишет. Девчонки в госпитале надо мной даже смеялись, если мне не было письма.