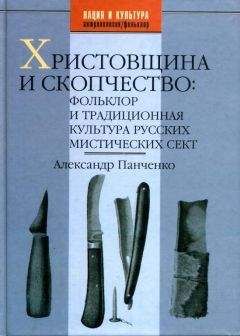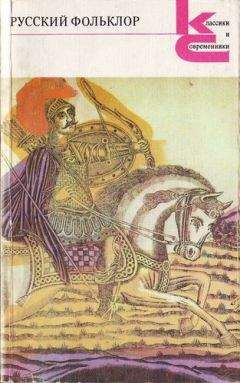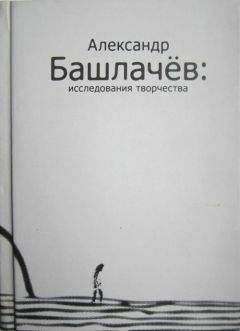Александр Панченко - Русский политический фольклор. Исследования и публикации
Пока этот сборник готовился к печати, политическая жизнь России претерпела заметные изменения и, если можно так выразиться, вновь сместилась в сторону архаизации. Выяснилось, что люди, узурпировавшие государственную власть, не только не готовы расстаться с ней, но и пытаются обороняться, апеллируя к привычным и зловещим моделям коллективного политического воображения: конспирологии, ксенофобии и патернализму. Все это выглядит не только глупо и подло, но и малоутешительно в смысле будущего страны. Конечно, если воспользоваться словами Пастернака, на свете есть вещи, «по поводу которых не философствуют, а бьют по морде». Вместе с тем современная нам общественно-политическая жизнь все же заслуживает если не философии, то объяснения, в том числе и в перспективе социальной и культурной преемственности в истории России последних столетий. Думаю, что публикуемые здесь материалы могут не только отчасти объяснить происходящее в наши дни, но и предостеречь от опасностей, ожидающих российское общество в недалеком будущем.
Литература
Архипова, Мельниченко 2010 / Архипова А. С., Мельниченко М. А. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования. М.,2010.
Архипова, Неклюдов 2010 / Архипова А. С., Неклюдов С. Ю. Фольклор и власть в «закрытом обществе» // Новое литературное обозрение. 2010. № 101. С. 84–103 [см. также наст. изд.].
Дандес 2003 / Дандес А. Фольклор: семиотика и / или психоанализ. М., 2003.
Панченко 2010 / Панченко А. А. К исследованию «еврейской темы» в истории русской словесности: сюжет о ритуальном убийстве // Новое литературное обозрение. 2010. № 104. С. 79–113.
Протестные митинги 2012 / Протестные митинги в декабре 2011 года: опыт оперативного исследования (подборка статей) // Антропологический форум. 2012. № 16 [http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/16online/].
Чистов 2003 / Чистов К. В. Русская народная утопия. СПб., 2003.
Abrahams 1993 / Abrahams R.D.Phantoms of Romantic Nationalism in Folkloristics // Journal of American Folklore. 1993. Vol. 106. № 419. P. 3–37.
Barkun 2003 / Barkun M. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley: University of California Press, 2003.
Britsyna, Golovakha 2005 / Britsyna O., Golovakha I. The Folklore of the Orange Revolution // Folklorica. 2005. Vol. 10. № 1. P. 3–17.
Campion-Vincent 2005 / Campion-Vincent V. Organ Theft Legends. Jackson, 2005.
Fenster 2008 / Fenster M. Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture / Revised and Updated Edition. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2008.
Iser 1989 / Iser W. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore; London, 1989.
Netinalju Stalinist 2004 / Netinalju Stalinist / Интернет-анекдоты о Сталине. Koostanud ja toimetanud Arvo Krikmann / Сост. и ред. Арво Крикманн. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004.
Oring 2004 / Oring E. Risky Business: Political Jokes under Repressive Regimes // Western Folklore. 2004. Vol. 63. P. 209–236.
Михаил Лурье
Политические и тюремные песни в начале XX века. Между пропагандой и фольклором
Понятно, что и песни каторги и ссылки были песнями самой революции, и песни революции были родными на каторге и в ссылке.
(Песни каторги и ссылки 1930: 8)
Учитывая полисемичность прилагательного «политический» и отсутствие терминологической определенности понятия «политический фольклор», словосочетание «политическая песня» может осмысляться и употребляться по-разному. Например, есть все основания называть политическими песнями как шуточные переделки Гимна СССР, имевшие широкое хождение в поздний советский период, так и многочисленные фронтовые песни времен Великой Отечественной войны, поносившие Гитлера и его приближенных.
В настоящей статье речь пойдет о вполне конкретной традиции: о песнях второй половины XIX – первых десятилетий XX века, направленных на дискредитацию существующего политического режима и ассоциируемого с ним общественного устройства, экономических, социальных, политических установлений и практик. В большинстве таких песен, в той или иной степени эксплицитно, присутствует элемент пропаганды. Нестрогими уточняющими синонимами к обозначению «политические» для этих песен могли бы стать, с одной стороны, определения «антиправительственные», «революционные», с другой стороны – «крамольные», «запрещенные». История таких песен в России восходит к известным стихотворно-песенным опытам поэтов-декабристов, которые, по сути, создали прецедент использования песни для массовой революционной агитации, особенное же распространение подобные тексты получили, начиная с 1860–1870-х годов.
Истории большинства таких политических песен начинались с публикации стихотворений (в основном, в зарубежных изданиях так называемой вольной печати), к которым впоследствии (как правило, довольно быстро, а иногда – одновременно с сочинением или публикацией текста) подбиралась или сочинялась мелодия. Во многих случаях авторы были изначально известны, а некоторые тексты появились как переводы, переложения или «подтекстовки» песен, возникших в других национальных традициях. При этом песни в основном исполнялись коллективно, авторство текстов, как правило, не актуализировалось при пении, при публикации часто не указывалось или приписывалось другим сочинителям, забывалось и путалось; тексты песен быстро теряли зависимость от исходного оригинального стихотворения, заметно варьировались, сокращались и дополнялись, на основе одного сочинялись другие, а отдельные строки и строфы переходили из песни в песню. В кругах, где эти песни создавались и распространялись, к ним относились как к коллективному достоянию, имеющему не только оперативную (как средство идеологической пропаганды), но и высокую символическую ценность, консолидирующему сообщество единомышленников и маркирующему его границы. Таким образом, в соответствии с функциями, выполняемыми в социальной среде своего бытования, и характеристиками самого бытования эта песенная традиция может быть описана как случай фольклора субкультуры[2].
Однако с течением времени политическая песня выходит за пределы сообщества профессиональных революционеров и оппозиционно настроенных общественных групп, не только расширяя социальные границы своего бытования, но и осваивая новые его формы, включаясь в несвойственные для нее ранее культурные контексты. Период, когда этот процесс стал особенно заметен, относится к началу ХХ века. И дело не только в том, что в эти годы все больше людей, принадлежащих к самым широким социальным слоям, вовлекалось в антиправительственные политические движения или сочувствовало им, вследствие чего быстро росло количество тех, кто считал «своими», знал, слушал и пел соответствующие песни. Одновременно с этим происходил процесс взаимопроникновения политической песни и общей песенной традиции, прежде всего затронувший пласт фольклорной тюремной лирики, о чем и пойдет речь в данной статье. К такому встречному движению существовали определенные предпосылки.
Во-первых, в этот период поневоле – собственно, в неволе – весьма активно взаимодействовали сами носители этих двух традиций: количество политических заключенных в пересыльных и каторжных тюрьмах в эти годы постоянно увеличивалось. Пианист и композитор В. Н. Гартевельд, предпринявший в 1908 году большую поездку по Сибири с целью записи тюремных и бродяжьих песен (впоследствии он составил из них концертную программу, с которой совершил турне по российским городам), писал в своем очерке: «Главная перемена произошла в составе самих каторжан. В то время, когда Кеннан посетил каторгу (т. е. в 1885–1886 годах – М.Л.), в состав каторжан входили одни уголовные; теперь же огромный процент каторжан составляют, так сказать, не уголовные. Песни последней категории каторжан, т. е. политических, как бы ни были они интересны в бытовом отношении, в музыкальном отношении значения не имеют, так как мотивы их почти все заимствованы из западноевропейских песен» (Гартевельд 1912: 3–4). Давая такую характеристику песням политкаторжан, Гартевельд, конечно, имел в виду песенный репертуар революционеров, о котором шла речь выше и который действительно имел мало общего с собственно тюремным фольклором. Однако постоянное общение «уголовных» с «не уголовными», которые, по замечанию того же Гартевельда, составляли заметную часть заключенных, стало одним из факторов, обусловивших обоюдное влияние этих двух пластов русской песенной культуры того времени.
Во-вторых, многие политические песни содержали в себе упоминание о репрессиях, которым подвергаются борцы за народное счастье. В 1930 году был выпущен сборник «Песни каторги и ссылки», в который вошли почти все революционные песни, составляющие ядро этой традиции, а некоторые, например, «Интернационал», не были включены составителями не из-за несоответствия тематике сборника, а только как «сделавшиеся всеобще известными и перешедшие в теперешний репертуар» (Песни каторги и ссылки 1930: 8). Таким образом, издатели сборника фактически ставят знак равенства между революционной борьбой и тюремным заключением. В предисловии по этому поводу содержится весьма яркий риторический пассаж: «На каторге и в ссылке революционер готовил себя для будущих битв. Каторга и ссылка были этапами, через которые проходили борцы от одной революции к другой. Поэтому оторвать политическую каторгу от революции невозможно» (Песни каторги и ссылки 1930: 7–8). Тюремное заключение, каторжные работы или по меньшей мере ссылка считались обязательным элементом политической биографии революционера[3], и его песенный образ – это прежде всего образ человека, принимающего страдания и гибель от руки власти. Не случайно такой устойчивой популярностью в среде революционеров-подпольщиков (а затем в кругу «старых большевиков») пользовались песни «Похоронный марш» («Вы жертвою пали в борьбе роковой…»), «Замучен тяжелой неволей…», «Погибшим борцам». При этом помимо обобщенных формул жертвенной гибели (вроде «Погибли вы смело в борьбе роковой» или «В битве великой не сгинут бесследно / Павшие с честью во имя идей…») для поэтики этих песен весьма характерны и такие топосы, как арест, тюрьма, каторга, рудники, кандалы, ссылка, шествие по этапу и т. п., отсылающие к определенным реалиям российских репрессивных практик того времени: