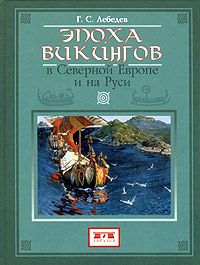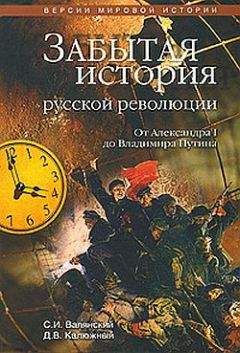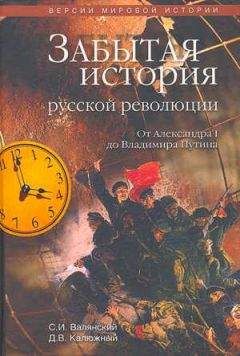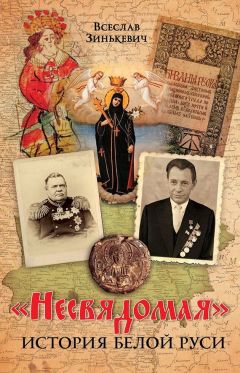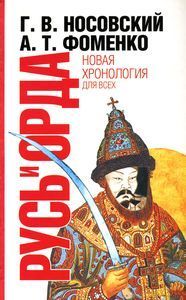Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
Между тем еще в конце 1930-х гг. один из первых советских скандинавистов, непосредственная ученица предреволюционных российских медиевистов и археологов Е. А. Рыдзевская писала о необходимости противопоставить «романтическому» представлению о викингах глубокое изучение социально-экономических и политических отношений в Скандинавии IX-XI вв., основанное на историко-материалистической марксистской методологии (Рыдзевская 1978:14).
Сложность для историков заключается в том, что эпоха викингов в значительной части — эпоха бесписьменная. До нас дошли немногочисленные магические либо поминальные тексты, написанные древнегерманским «руническим письмом». Остальной фонд источников — либо зарубежный (западноевропейские, русские, византийские, арабские памятники), либо скандинавский, но записанный лишь в XII—XIII вв. (исландские саги — сказания о временах викингов). Основной материал для изучения по эпохе викингов дает археология, и, получая от археологов их выводы, медиевисты вынуждены, во-первых, ограничиваться рамками этих выводов, во-вторых, испытывать ограничения, наложенные методологией, на которой они основаны, — естественно, в первую очередь позитивистской методологией скандинавской археологической школы.
Археологи, прежде всего шведские, еще с начала XX в. затратили значительные усилия на разработку так называемого «варяжского вопроса», который рассматривался в русле «норманской теории» образования Древнерусского государства (Arne 1914; Nerman 1929; Arbman 1955; Портан 1982:99-101). Согласно экстремальным версиям этой теории, основанным на тенденциозном толковании русских летописей, Киевская Русь была создана шведскими викингами, в середине IX в. силой оружия подчинившими восточнославянские племена и затем составившими господствующий класс древнерусского общества во главе с князьями Рюриковичами.
Подобная картина, напоминавшая, например, «норманнское завоевание» Англии офранцуженными потомками викингов в XI в. (1066 г.), однако, совершенно не соответствовала ни древнерусским, ни скандинавским, ни, в сравнении с ними, английским письменным источникам, летописям и хроникам, средневековым юридическим актам, да и историческим воспоминаниям народов.
Поэтому на протяжении XVIII, XIX и XX вв. русско-скандинавские отношения IX-XI вв. были предметом острейшей дискуссии между «норманистами» и «антинорманистами», причем борьба этих научных лагерей, зародившихся еще в дореволюционной России и восходивших к полемике Михаила Ломоносова с «немцами-академиками» времен императрицы Елизаветы Петровны, в XIX столетии постепенно утратила национально-патриотическую окраску. С точки зрения советских историков, «норманизм» и «антинорманизм» развивались в то время как «течения внутри буржуазной науки». Однако после 1917 года, и особенно по мере «построения социализма в одной стране — СССР», ориентированная на давнее воздействие Европы на Россию «норманская теория» приобретала политическую окраску и, соответственно, антимарксистскую направленность, а в крайних своих проявлениях часто носила идеологизированный и откровенно антисоветский и антирусский характер (достаточно вспомнить «норманистские» брошюры по русской истории в ранцах солдат гитлеровского вермахта). Это вызывало и вполне адекватную в таком отношении, и столь же далекую от целей и методов научного исторического исследования реакцию оппонентов-«антинорманистов» (причем не обязательно советских, но и не менее идеологизированных зарубежных российских «почвенников» из эмигрантской науки) (Шаскольский 1965, 1983).
Начиная с 1930-х гг. советская историческая наука с «марксистско-ленинских методологических позиций», в соответствии с требованиями теории исторического материализма, расширяла контекст и базу исследования проблематики «варяжского вопроса». Идеологическая полемичность далеко не всегда препятствовала, а порою и стимулировала разработку фундаментальных научных проблем, прежде всего хозяйственного уклада и общественных отношений, экономики и социального строя древних обществ. Именно в этих сферах изучения древнего прошлого, начиная с реконструкции охотничьего уклада, экологии и технологии палеолитических общин каменного века, достижения советских археологов даже в разгар «холодной войны» завоевывали мировое международное признание (Семенов 1951; Semenov 1957).
Ученые СССР в предвоенные и послевоенные годы середины XX века на основе обширного, непрерывно пополнявшегося и расширявшегося фонда источников (во многом, а порою и прежде всего — археологических) стремились раскрыть социально-экономические предпосылки, внутренние политические факторы и конкретный исторический ход развития первобытного общества — к классовому строю древних цивилизаций (Всемирная история, I—III, 1957—1960), и наибольший интерес для российских исследователей представлял, естественно, процесс образования классового общества и государства у восточных славян. Киевская Русь, Древнерусское государство IX-XII вв. — закономерный результат внутреннего социально-экономического развития восточнославянского общества. Этот фундаментальный вывод был дополнен достаточно убедительными доказательствами несостоятельности теорий «норманского завоевания» или «норманской колонизации» Древней Руси, выдвигавшихся зарубежными норманистами в 1910-1950-х гг. (Шаскольский 1965: 35-88, 115-163).
Таким образом были созданы объективные предпосылки для научного исследования русско-скандинавских отношений IX-XI вв. Однако результативность такого исследования зависит от изучения социально-экономических процессов и политической истории самой Скандинавии эпохи викингов. Эта тема длительное время не разрабатывалась в советской исторической науке. Основные обобщения фактического материала, создававшиеся на протяжении деятельности многих поколений ученых, принадлежат скандинавским археологам, и положение это сохранилось до конца XX века (Brandsted 1960; Arbman 1962; Hagen 1967; ср.: Almgren В. е. а. 1967; Роэсдаль 2001).
Этот «взгляд с Севера» безусловно ценен громадным объемом точных данных, лежащих в его основе. Однако методологическая основа, на которую опираются скандинавские ученые, ведет к описательности, поверхностности, а порой и к серьезным противоречиям в характеристике общественного развития Скандинавии эпохи викингов. Главной проблемой и в начале XXI века остается генезис «общества викингов», связь этого общества со скандинавской действительностью предшествующих столетий, факторы, вызвавшие к жизни беспрецедентную экспансию «северных людей» Европы, норманнов. Причины этой взрывообразной экспансии никак не проявляются в методичных обзорах культуры и технологий, социальных отношений и духовного мира викингов, выделенных из исторического контекста развития как собственно Скандинавии в предшествующие и последующие столетия, так и окружающего мира того времени (Хлевов 2002).
Западноевропейские ученые-скандинависты в своих работах середины XX столетия основное внимание уделяли внешней экспансии норманнов на Западе и сравнительным характеристикам экономики, культуры, социального строя, искусства скандинавов и народов Западной Европы (Durand 1977; Wilson, Klindt-Jensen 1966; Foote, Wilson 1970; Graham-Campbell 1994). Именно этот «взгляд с Запада» раскрыл мировой культуре общество викингов как самостоятельный и самоценный феномен, которому человечество обязано яркими образцами «варварского» искусства, поэзии, уникальными текстами «Эдды» и саг, запечатлевшими своеобразие языческого мира Европейского Севера. В последние десятилетия XX века предметом пристального международного изучения стала «городская революция» Скандинавии эпохи викингов, как составная часть процесса урбанизации раннесредневековой Европы в странах, лежавших за пределами греко-римского античного мира (Stadtarchaologie im Hanseraum 1995). Включая скандинавское общество в общеевропейский контекст, эти исследования дали немало для выявления внешних, в первую очередь западных, факторов развития северных стран. Однако само по себе их изучение оказывается недостаточным для раскрытия «феномена викинга».
«Взгляд с Юга» на проблематику Европейского Севера, с южного побережья Балтийского моря, в конце 1970-х — начале 1980-х гг. предложили ученые Польши и Восточной Германии, в условиях «разрядки» и бесславного финала «холодной войны» построившие свои исследования как опыт анализа археологии викингов с марксистских позиций (Leciejewicz 1979; Herrmann 1982). Именно тогда был поставлен очень важный вопрос о значении славяно-скандинавских связей для общества викингов; были вскрыты существенные аспекты экономического и социального развития. Однако, ограничивая себя анализом археологического материала, исследователи не могли реконструировать конкретно-исторические этапы социального развития, проследить его проявление в политической структуре и в духовной культуре Скандинавии IX-XI вв. Между тем в социально-экономической сфере именно тогда были сделаны принципиально важные заключения, и, что особенно отрадно, они были получены, проверены и подтверждены в результате подлинного международного научного сотрудничества ученых Польши и ГДР, Советского Союза и Финляндии, Швеции, Дании, словно преодолевших «берлинскую стену» за несколько лет до ее крушения. В годы горбачевской «перестройки» этот опыт был дополнен и развит советскими исследователями, расширившими полученную историко-культурную панораму за счет восточноевропейского материала (Славяне и скандинавы 1986).