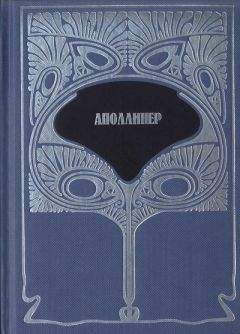Пьер Декс - Повседневная жизнь сюрреалистов. 1917-1932
«Парижский крестьянин», как и «Надя» Бретона, сегодня читаются как сюрреалистические романы. Но сказать так в то время значило бы развязать гражданскую войну.
С приближением публикации «Парижского крестьянина» отдельной книгой в 1925 году Арагон сведет эти разногласия между ним и Бретоном к шутке: «Я знавал человека, который не такой, как все… Это некто Андре Бретон, который кажется романистам персонажем романа и, похоже, является моим другом. Который слышит катастрофы. Который ждет на краю болот глас синей трубы будущего. Который никогда не думал о себе… Который никогда не шутил с небесами».
На самом деле спор велся не столько о романе, сколько о концепции жизни и ее отношениях с писательством (чтобы не употреблять запретное слово «литература»). Поскольку Бретон отождествлял сюрреализм с автоматическим письмом (то есть практически антиписательством), откровением бессознательного, он был просто обязан отвергать роман — не столько за «реализм», сколько за осознанное его выстраивание. За откровенную «литературу».
Естественно, не обошлось без иллюзий. Сам Бретон не принимал своих автоматических находок как таковых, если испытывал потребность переиначить их в «трамплины» для стихотворений или прозаических произведений с определенным замыслом. Арагон же прекрасно знал, какова доля автоматизма в создаваемых им образах, и старался узаконить их с его помощью. Естественно, ни тот ни другой тогда бы в этом не признались. Бретон сказал бы: «Литература — одна из самых печальных дорог, которые ведут ко всему». А Арагон, не отстававший от него, — «Ловкость художника — это маскарад, компрометирующий человеческое достоинство».
Не будем забывать, что «Манифест» — руководство по использованию «Растворимой рыбы». В программное заявление он превратился лишь под воздействием внешних обстоятельств — смерти Анатоля Франса 12 октября, побудившей наших сюрреалистов сымпровизировать памфлет «Труп».
Чтобы понять неистовость этого памфлета и атмосферу, которая окружала, с наступлением осени, публикацию «Манифеста» как такового, а не как изложение Бретоном своего личного пути в искусстве, необходимо отставить в сторону тлеющий конфликт между Арагоном и Бретоном и вернуться к каникулам 1924 года. Арагон провел их в Гетари в обществе Дриё (который сделал Бретона персонажем романа, вернее, новеллы — «Городской змей», опубликованной в марте 1923 года в «Европейском обозрении»), Дриё и Арагон были знакомы уже восемь лет. Возможно, именно об их тогдашних разговорах Дриё напишет в 1927 году: «Мы устремлялись в погоню за мыслью, уводившей нас всё дальше вглубь себя. Тогда мы действительно убегали от литературы, потому что восходили к неиссякаемому источнику — душе… Восторженное внимание, с каким я следил за дерзким продвижением на ощупь группы этих людей — единственных в Париже, которые жили, — переходило в дрожь надежды и любви».
Бесславное возвращениеКак обычно, Бретон поехал к своим в Лориан вместе с Симоной. Он повстречал Макса Мориза, бывшего в Дуарнене, а еще Пьера Навиля, жившего в Кемперле. Незадолго до отъезда Бретон, по просьбе Клары Мальро, вступился за Андре Мальро, приговоренного в Камбодже к трем годам тюрьмы по обвинению в «похищении двух-трех каменных танцовщиц… Недопустимо по столь ничтожному случаю бросать тень на фигуру такого масштаба, как пытались утопить Аполлинера из-за «Джоконды»,[106] которая его не стоила».
Мальро подал апелляцию и отделался одним годом условно.
Самым непредвиденным событием стало возвращение Элюара. Надо сказать, что Бретон с друзьями упали с небес на землю. Исчезновение Элюара превратило его в символ, а возвращение сделало служащим своего отца, разбирающим претензии в конторе по торговле недвижимостью. Самый громкий отклик оно нашло у Навиля, переписавшего письмо Бретона Нолю, тогда служившему в армии, которое тот переслал Денизе. Вот как оно выглядит в его оформлении:
Представь себе:
Элюар — правда-правда! — был попросту на Таити, на Яве, а потом в Сайгоне с Гала и Эрнстом,
который заявится на днях.
Но Поль и Гала, как ни в чем не бывало, — Обонн.
Я знаю, тебе это понравится.
Так вот, он оставил записку, которая ждала меня вчера в «Сирано»,
ни +
ни -
Он все тот же, сомнений нет.
Каникулы, так сказать -
Вот видишь.
Лучше предоставить слово Симоне, писавшей Денизе: «Я никого не заставляю воплощать собой идею и всегда испытываю большую благодарность к человеку, который естественным образом совершил скромный поступок, чем к тому, кто напускает на себя величие вопреки своей природе… Я всегда буду утверждать, что Андре отказался от большего, когда подумал «Бросьте всё», чем Элюар, когда уехал на полгода, а Рембо ушел, когда выкрикнул «Сезон в аду», а не когда сел на корабль… Когда я его увидела, мне чисто физически показалось, что он стал ниже ростом… Определенная ирония спасает положение. Прекрасное возвращение без белого флага, в круг десяти друзей, говорящих: «Когда-то он…» Теперь он уже никогда не уезжал».
Навиль приводит и другое письмо Денизе, на ту же тему, но уже от… Арагона! «Андре деморализован, рад снова видеть Поля, и потом, и потом. И разъярен… Я-то скучал по Элюару, просто невозможно до чего. И мне совсем не важно, что меня в очередной раз провели. Пусть так, раз и навсегда, я решился на это. Теперь все шишки посыпятся на меня, и в социальном смысле я всегда буду виноват… Вовсе не тут я льщу себе тем, что наконец-то оказался прав».
Вот он, тон настоящего Арагона, говорящего, можно сказать, для себя, а не для других. Жаль, что до нас не дошли другие его письма Денизе. Если они когда-нибудь будут обнаружены, то наверняка люди, не знавшие Арагона, изменят свое представление о нем.
Что же касается отъезда и возвращения Элюара, то они открыли истинное лицо тех, кто любил его и верил в него. Это видно по письмам, которыми он обменивался с Нолем. Навиль вспоминал, что Элюар придавал своим тогдашним страстям «длительную форму стихов, которые будут повторять из века в век, вслух или про себя, в зависимости от их достоинств, но всегда с бьющимся сердцем». Позже Элюар написал в «Непорочном зачатии»: «Путешествия всегда заводили меня слишком далеко. Уверенность в том, что я достигну цели, казалась мне только сотым звонком в неоткрывающуюся дверь».
Судя по всему, Элюар вернулся совершенно сломленным. Более близким к самоубийству, чем перед отъездом. «Теперь я не могу пройти мимо Сены, не испытав желания в нее броситься», — говорил он Нолю. «Пусть помолчит тот, кто не плакал каждый вечер своей жизни от глупости людской и от обязанностей, продиктованных ему самой низменной необходимостью», — писал он чуть позже, когда это уже не выглядело откровением. А много лет спустя, в 1946 году, когда Элюар внезапно потерял Нуш,[107] Арагон вспомнил именно об этих днях, боясь в любую минуту узнать, что Поль покончил с собой…
Гала не забрала его с собой в рай. Симона пишет Денизе: «Я никогда не прошу ей не ее ложь, а ее лживое поведение в момент его отъезда. Я испытываю к ней безграничное отвращение. Я не могу простить, когда у меня воруют мои переживания. А тем более у Андре».
Все это произошло непосредственно перед смертью Анатоля Франса. Очевидно, сводя с ним счеты, сюрреалисты старались забыть о неловкости, вызванной возвращением Элюара. Однако эта инициатива исходила сначала не от группы, а от Дриё, давшего на это деньги. Оказалось, что Арагон написал свой текст в поезде, на пути из Гетари, а это значит, что до сих пор он поддерживал связь с группой только через письма. Вероятно, он вернулся вместе с Дриё, который, пожалуй, был даже рад случаю вновь прилепиться к группе. Анатоль Франс же символизировал все то, что ненавидели эти молодые люди, вернувшиеся с войны: «Этот дед смешал с грязью всех, кого мы любим среди наших отцов и дядей».
«Вы уже давали пощечину трупу?»Бретон решил замахнуться пошире: «Лоти,[108] Баррес, Франс — обведем красивой рамочкой тот год, когда упокоились три этих мрачных персонажа: идиот, предатель и соглядатай. Удостоим третьего особенно презрительного слова, я не возражаю. Вместе с Франсом ушло немного человеческого раболепия. Пусть станет праздником тот день, когда мы хороним хитрость, традиционализм, патриотизм, оппортунизм, скептицизм, реализм и малодушие!.. Не простим ему никогда, что он украсил флаги Революции своей улыбчивой иронией».