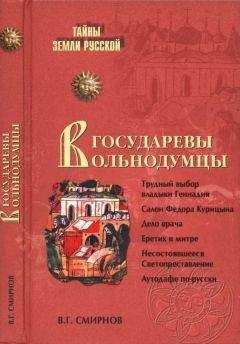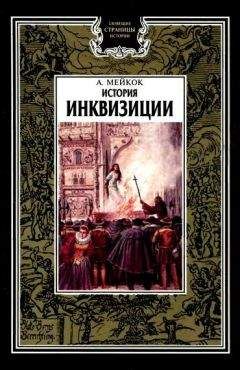Пирс Брендон - Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997
Не наблюдалось и юридической бесстрастности. Естественно, «все люди равны перед законом». Но, один министр по делам колоний писал, не покраснев: «Ошибочно предполагать, что вы можете относиться к китайцам так, словно это англичане»[590].
Министерство по делам колоний не имело монополии на власть в империи. Его решения в любой момент могли отменить Адмиралтейство, Военное министерство, Министерство по делам Индии, Министерство торговли, Министерство иностранных дел и казначейство. Последний из этих департаментов часто получал решающее слово, хотя его усилия по навязыванию «жесткой экономии» не всегда оказывались успешными. Когда казначейство фактически попыталось урезать количество выделяемой Министерству по делам колонии бумаги, то получило находчивый ответ, который положил конец попыткам: «Ни один джентльмен не будет писать другому на половине листа бумаги»[591].
На практике оказывалось, что человек на месте более могуществен, чем его теоретические начальники дома. Даже говорили, что империю не столько толкают из центра, сколько вытягивают с краев. Ведь имелась масса случаев, когда «собака метрополии махала своим колониальным хвостом»[592]. Особенно оголтелый пример имел место в 1848 г., когда полностью по собственной инициативе полубезумный сэр Гарри Смит аннексировал «британскую Кафрарию», большой регион к югу от Драконовых гор, поставил ногу на шею местного правителя и провозгласил: «Я — ваш верховный вождь, а кафры — мои собаки!»[593] Чтобы подчеркнуть свое заявление, он взорвал фургон со взрывчаткой перед глазами двух тысяч аборигенов.
Местные администрации иногда были такими же эксцентричными, как и губернаторы. Различными путями Канада, Австралия и Новая Зеландия фактически управляли своими делами. «Ост-Индийская компания» номинально правила Индостаном и удерживала экономическое влияние между мысом Доброй Надежды и мысом Горн. Как сказал Маколей, это было «самое странное из всех правительств, но оно оказалось придуманным для самой странной из всех империй»[594].
В Индии имелось около 560 удельных княжеств. Их раджам часто «давали советы» британские резиденты. А у подчиненных округов имелись дополнительные обязанности. Например, Бомбей осуществлял надзор за Аденом и британским представительством в Занзибаре. Бенгалия держала власть от Пешавара до Рангуна. Другие получившие патенты компании тоже получали владения и подвластные сферы на Борнео, в Нигерии и Родезии.
«Колонии короны», полученные в результате войны, договора или оккупации (например, Британская Гвиана, Тринидад, Фолкленды, Мальта, Капская колония и Цейлон), более или менее деспотично управлялись британским губернатором. Протектораты (Золотой Берег, Уганда, Восточная Африка и разнообразные острова в Тихом океане) представляли собой промежуточную стадию между альянсом и суверенитетом. Правда, даже Министерство по делам колоний «точно не знало, что это означает»[595]. На островах Тристан-да-Кунья, хотя ими правили миссионеры, вообще не имелось никакой формальной администрации.
Благодаря своей торговой и военно-морской мощи Британия получила еще более туманную власть над государствами-сателлитами в Южной Америке, Азии и других местах. Средиземное море, как отмечалось выше, фактически было британским озером. С 1814 по 1846 гг. генеральный консул в Триполи, полковник Ганмер Уоррингтон, являлся «во всех смыслах министром иностранных дел паши»[596]. Лорда Стратфорда де Редклиффа называли «великий элчи» (посол) при дворе султана в Константинополе. Он обладал почти деспотической властью между 1841 и 1857 гг., устанавливая свои собственные законы и имея собственного тюремщика[597].
Даже США были втянуты в орбиту Великобритании в XIX веке. «Мы представляем собой часть (и большую часть) Великобритании, которой, как кажется ясным, суждено править этой планетой», — писала «Нью-Йорк тайме»[598].
Хотя некоторые историки говорили о призрачной связи с зависимыми государствами, как о «неформальной империи»[599] Британии, она в меньшей мере представляла собой ядро власти, чем сферу влияния. Ее сила варьировалась в зависимости от обстоятельств. Часто Великобритания имела лишь фантомную гегемонию.
Более существенными становились прямые формы контроля, навязываемые потеющими консулами на Нигере, наследными белыми раджами Саравака или капитанами военно-морского флота, который командовал островом Вознесения. (Остров Адмиралтейство называло как корабль — «каменный фрегат»)[600]. Если вкратце, то это была империя аномалий.
Однако это была империя. Она признавала верховенство британской короны и Парламента в Вестминстера. И ее целью было продвижение истинных интересов страны, над которой, по выражению лорда Палмерстона, никогда не заходит солнце.
Британия была, по сути, заинтересована в политических преимуществах и коммерческой выгоде. А это, в свою очередь, увеличивало силу и рост. Сила и богатство были основой, базой империи. Но мировая сеть оказалась очень непрочной. Британцы часто предполагали: если порвется одно звено, то может разойтись и вся ткань. Соответственно, строители империи всегда были склонны к продвижению вперед. Они страстно желали поставить бастион здесь, отщипнуть плацдарм там, захватить инициативу где-то еще. Как сэр Чарльз Меткалф, они эхом повторяли афоризм Клайва: «Останавливаться опасно, отступать губительно»[601].
Конечно, они имели многочисленные возвышенные оправдания имперской экспансии. Христианство и цивилизация следовали за «Юнион Джеком», поскольку в долгом марше за улучшение мира Британия была определенно выбрана на лидирующую позицию. «Блэквудс мэгэзин» испытывал благоговейный трепет от несравненной грандиозности имперского положения страны в 1843 г. Верилось, что «Британии суждено по воле Всемогущего стать инструментом для проведения в жизнь высоких и чистых скрытых замыслов в отношении человечества»[602].
Да, циники вроде сэра Уильяма Моулсмита говорили: люди, заявляющие о продвижении гуманности за счет варварства, обычно имеют в виду «снаряды и картечь, сожжение и разрушение городов на местах и общую бойню их обитателей»[603]. Но, хотя такая критика иногда попадала в точку, лишь очень немногие сомневались, что судьба страны связана с проповедью прогресса. Даже радикалы враждебно настроенные к империализму (например, Кобден и Голдвин Смит), не хотели разбирать империю на части. А политики, которые сожалели обо всем беспокойстве, проблемах и стоимости, считали: это необходимо для величия Великобритании.
«Существенная потеря колоний уменьшила бы нашу значимость в мире, — говорил лорд Джон Рассел. — И стервятники скоро собрались бы, чтобы отобрать у нас другие части нашей империи, оскорбить нас. А этого мы не сможем вынести»[604].
Совершенно не терпел оскорблений лорд Палмерстон, крупнейший поборник агрессивной зарубежной политики в первую половину викторианской эпохи. Разделяя взгляды Маколея в том, что «торговать с цивилизованными людьми бесконечно более прибыльно, чем править дикарями»[605], Палмерстон считал: важнее развивать торговлю, а не приобретать территорию. Но иногда одно дело включало другое. И как бы там ни было, он руководствовался одним безупречным мотивом: «Интересы Англии — это Полярная звезда»[606].
Палмерстон, щеголь периода Регентства, который доминировал в большинстве правительств раннего периода викторианской эпохи, оставаясь премьер-министром большую часть времени до своей смерти в 1865 г., в молодости имел кличку «лорд Купидон». Это было отданием должного его любвеобильной натуре. Правда, Палмерстон не всегда мог оставаться в рамках приличий. В 1837 г. он попытался совратить (возможно, даже изнасиловать) одну из фрейлин в Виндзорском замке. Из-за этого у него начались серьезные проблемы с девственной королевой. Монархиня не одобряла и тот своевольный и властный способ, которым Палмерстон вел международные дела.
Он был знатной особой из «вигов», склонялся к популизму, негодовал из-за монаршего вмешательства, восстановил против себя принца Альберта и посоветовал монархине ограничить международную корреспонденцию семейными сплетнями. Палмерстон столь же резко обходился со своими коллегами по кабинету, которые часто приходили в ужас от яростности его высказываний, от опрометчивости и необдуманности его поведения. В роли премьер-министра лорд Мельбурн начинал многие предложения в своих письмах министру иностранных дел словами: «Ради Бога, не надо…»[607]
Однако британскому электорату нравилась резкая манера обращения «лорда Пемзы» с чужестранными монархами и влиятельными лицами. Среди других он оскорбил папу, который так хвалил светское правление, что, как предполагал Палмерстон, «не стал бы открывать ворота Рая, пока не сможет устроить какой-то маленький ад на земле»[608].