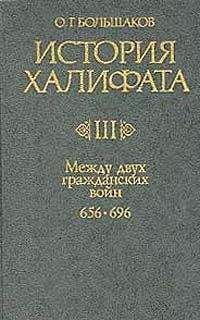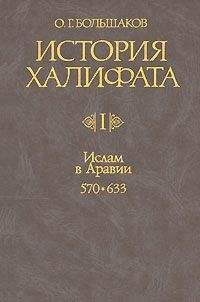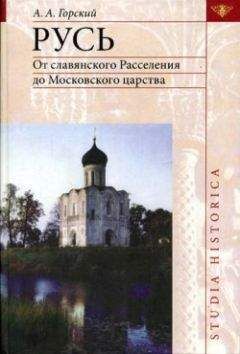Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке
В сущности, о Поленове, скорее, подобало бы говорить в главе об академических эпигонах, так как он по духу своего искусства принадлежит к последним, однако приходится коснуться деятельности этого художника именно здесь вследствие того, что по недоразумению долгое время Поленова как раз считали единственно достойным наследником Иванова — за одну чисто внешнюю черту сходства с ним: за реализм.
В. Д. Поленов. Христос и грешница. 1887. ГРМ.
Когда на выставке 1887 года появилась гигантская парадная «Грешница» Поленова, то в эту промежуточную эпоху она угодила всем и вызвала всеобщий восторг. Никто тогда не посмотрел на ее слабую живопись и слащавый колорит. Многочисленным еще в то время «позитивистам», видевшим в Христе обыкновенного смертного, обыкновенного дервиша, чрезвычайно пришелся по вкусу странник с кислой, ничего не значащей физиономией, а любителям приторного и пикантных контрастов очень понравилась хорошенькая грешница, влекомая хором безобразных жидов. Большая же толпа, увлекшаяся «Аидой» и «Королем Лагорским», очень оценила всю восточную mise-en-scene и эффектную оперную декорацию с розовой далью, великолепными кипарисами и роскошным храмом в перспективе.
Вслед за этой картиной Поленова кое-какие толки еще возбудили его «Генисаретское озеро» и «Мечты», где тот же странник гулял и сидел среди сладеньких южных ландшафтов, и, наконец, нарядная жанровая сценка «Иисус среди учителей», появившаяся почти одновременно с почтенным научным трудом Джеймса Тиссо, но не обладавшая и сотой долей его серьезности. Но теперь Поленов если и сохраняет еще видное и почетное место в ряду русских художников, то только благодаря своим свежим и поэтичным русским пейзажам, весь же его цикл картин из жизни Христа, равно как и прежние исторические жанры, утратил всякое значение. Особенно стало ясно, что Поленов вовсе не «великий религиозный и исторический живописец», после того как его «Грешница» снова предстала на суд публики в Музее Александра III, когда вдруг обнаружилось — особенно из-за невыгодного соседства с мощным суриковским «Ермаком», — что это не картина, а пустенькая иллюстрация, увеличенная до неподобающих размеров.
Гораздо большего внимания заслуживают два других религиозных живописца: Виктор Васнецов и Нестеров, в которых почти все уверовали теперь, после долголетнего отрицания, и которые в данную минуту считаются лучшими выразителями чисто русских религиозных идеалов.
Н. Д. Кузнецов. Портрет В. М. Васнецова. 1891. ГТГ.
Когда еще в конце 70-х годов, в самый разгар реализма и передвижнического направленства, Васнецов вдруг обнаружил наклонность бросить свои мелочные мещанские жанрики и приняться за русскую народную сказку, тогда все сочли его за сумасшедшего, за невозможного чудака и никто, за исключением двух-трех передовых ценителей, не решался поддержать его, настолько этот поворот казался странным и диким. Однако Васнецов не испугался глумления толпы и товарищей и смело пошел по намеченному пути. В этом его огромная заслуга: он первый, когда даже в стане передового искусства еще никто о чем-либо другом не думал, кроме как об обыденной действительности[68], отказался от пресного реализма и первый напомнил о том, что, кроме интереса к «Земскому собранию» и к «Преферансу у чиновников», могут существовать и другие, к чему-то более прекрасному и отрадному: к дивному миру народной фантастики… Впоследствии, когда наступила реакция против шестидесятничества в искусстве, русское общество оценило эти начинания Васнецова, но тут же впало в другую крайность: из сумасшедшего и чудака его вдруг произвели в гении.
В. М. Васнецов. Преферанс. 1879. ГТГ.
Теперь необходимо взглянуть на дело иначе: сказочная живопись Васнецова отошла в историю, и уже возможно беспристрастно судить о ней. И вот оказывается, что новое поколение предъявляет сказочнику Васнецову такие требования, удовлетворить которые он не в состоянии. Поклонившись почтенному мастеру за то, что он заговорил о самых дорогих для нас вещах в такое время, когда это было наименее возможно, мы отходим от него преисполненные уважения, но холодные, разочарованные, так как в его произведениях истинно сказочного мы не видим, а видим одни только поэтичные намерения.
«Поле битвы», казавшееся прежде прелестной страничкой древнего эпоса, полной поэзии и щемящей меланхолии, нам представляется, скорее, нарядным, но пустеньким финалом какого-нибудь «национального» балета.
Нарочитая подчеркнутость настроения в восходящей над степью огромной луне, эффектная схватка коршунов посреди картины, театрально раскинувшиеся убитые, а главное, в центре композиции гладкий и чистенький, как фарфоровая куколка, князек, лежащий в пикантно-застывшей позе, с грудью, аккуратно проткнутой стрелой, — все это, при полном отсутствии характерности, стиля и силы, производит такое же приторное, жеманное и фальшивое впечатление, как «изящные» иллюстрации в немецких детских книжках. Также и «Ковер-самолет» ничем, если только не костюмом героя, не отличается от ординарных заграничных картинок. «Иван-Царевич», на своем волке из мехового магазина, среди шаблонного Urwald'a{83}, удивительно походит на тех размалеванных красавиц, которые на балаганах играют русских «принцев». «Витязь на перепутье» представляется теперь самым обыкновенным ходячим иллюстрационным типом, а «Сирины» и «Гамаюны» — только смешными, немощными подражаниями таинственной загадочности древних, неумелых, но сколь впечатляющих изображений.
Однако огромный успех, завоеванный постепенно Васнецовым посредством всех этих слабеньких и по замыслу, и по живописи картин, не только указывает еще раз на неразвитость русского общества в деле оценки художественных произведений, но имеет и очень глубокое значение. Васнецову обрадовались потому, что тирания лаптя и сермяги всем слишком надоела. Если в Васнецове и нет настоящей, грандиозной творческой мощи, то в нем, несомненно, большая сила новатора, открывшего, несмотря на вопли и протесты, целую область для художественной разработки. Дороги не сами по себе его сладенькие «иллюстрации», а те речи, которые он про них рассказывал, его заразительный энтузиазм, его истинное проникновение народной поэзией, его влюбленность в народную красоту, выразившиеся в его работах лишь кое-где и как-то случайно: в пейзажах «Аленушки»[69] и «Богатырей», в эффектной группировке и странном освещении «Трех царевен», в маленьком видике из окна на слободу — в «Иоанне Грозном» и еще более в его декоративных композициях, в постановке «Снегурочки» и другом более вольном и в то же время мелком творчестве. Если безумный успех Брюллова только печальное явление, свидетельствующее о полном непонимании русской «высшей интеллигенцией» истинных задач искусства, то успех васнецовских сказок трогателен, так как в нем сказались как раз назревающее понимание, жажда и голод иного, высшего и более прекрасного начала, нежели тоскливо-однообразное народничанье и направленство…
В. М. Васнецов. Аленушка. 1881. ГТГ.
С другой стороны, вполне естественно, что Васнецов не мог один, без предшественников, сразу выразить самое ценное, сложное и неуловимое, что кроется в русском народе. Сравнивать его с западными художниками и ставить ему в вину, что он имеет гораздо больше общего с официальными академическими художниками, с Лоренсом, Люминэ и многими другими, нежели с истинными фантастами и поэтами, будет несправедливо. У Бёклина и Пюви был длинный ряд предшественников, давших им средства полностью выразить свои гениальные мечты; также у Бёрн-Джонса и Уолтера-Крейна, также и в былое время у Дюрера, у Нитхардта, у Калло, у Ватто, у Гойи, у Тёрнера. У каждого из этих художников был длинный ряд духовных предков, уравнявших им путь. Предшественники же Васнецова — те неумелые травники и изографы, которые расписывали стены и мебель древних палат, а также темные авторы лубочных картинок. Если бы еще мы все время шли вровень с Европой, если бы не увлекались только продажным и мишурным из того, что там делается, если бы могли вовремя улавливать не одно поверхностное в западном искусстве, то и Васнецов, разумеется, не воспитал бы свой свежий, самобытный вкус сначала на всякой анекдотической пошлятине, а затем на пустом Макарте и разных дешевых легковесных немецких и французских иллюстраторах. Но вся беда нашего европейско-русского искусства до самых последних дней в том и состояла, что, за исключением такого передового гения, как Иванов, вознесшегося над взглядом своего времени, наши художники не видели тех грандиозных явлений, которые в их время составляли суть и соль западного искусства, но хватались за вздор и пустяки. То же мы видим и теперь, но, к счастью, уже не среди художников, а только в публике. Все мало-мальски свежее в европейском искусстве она поносит глупо-провинциальной, у нас только в России и имеющей ход кличкой «декадентства», а все истинно упадочное превозносит до небес.