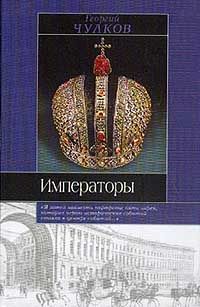Георгий Чулков - Императоры России
«Поблагодарите Пушкина, — сказал он по-французски князю И. А. Васильчикову, который вручил царю стихи, — поблагодарите его за добрые чувства, какие он внушает своими стихами».
Стихи, однако, по цензурным условиям при жизни Александра в печати не появились, и «добрые чувства» поэту не пришлось тогда внушить согражданам. А потом Пушкин стал писать иные стихи. Они уже не пришлись по вкусу сентиментальному государю, и он повелел строптивому поэту выехать на юг, подальше от столицы.
Пушкин не любил Александра. Поэт славил императора как участника мировых событий, но он не чувствовал в нем ничего для себя близкого. И немудрено, ибо трудно найти людей более противоположных, чем они. Пушкин всегда прислушивался к голосу национальной стихии. Александр не различал гармонии в этом гуле народной жизни. Ему нравились чувствительные песенки, какие распевают белокурые немки на берегах Рейна. Туда бы ему уехать! Там бы ему поселиться, подальше от этих жутких и непонятных русских мужиков, которые как будто на все способны — и на Пугачевский бунт, и на Бородинскую битву. В годовщину Бородина, когда Александру напомнили об этом, он отвернулся, хмурясь. Ему тяжело было вспомнить об этой битве, об этой мужицкой кутузовской тактике, осужденной немецкой военной наукой.
Иные называли Александра сфинксом. Его душа была непонятна в своих противоречиях. Легко было объяснить его двусмысленное поведение жалким лицемерием и природной лживостью, но это — слишком простое объяснение слишком сложного факта. Пушкин высказывал противоречивые оценки личности Александра. В 1829 году, будучи на Кавказе, он увидел однажды мраморный бюст императора. Кто-то обратил внимание его на то, что брови царя нахмурены, а на губах улыбка. Это дало повод поэту написать его известную эпиграмму:
Напрасно видят тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку
И гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен;
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.
Да, если угодно, император Александр был в каком-то смысле арлекином. Но какая это была трагическая арлекинада! Он сам, как умный человек, понимал двусмысленность своих дел и мнений, но не была ли причина этой двусмысленности в объективных условиях тогдашней императорской власти? Александр искренне хотел быть либералом, и многие, окружавшие его, не прочь были воспользоваться этим настроением государя, но при том условии, чтобы этот либерализм не простирался далее тех или иных социальных группировок, в коих они были заинтересованы. Вот почему даже такие друзья его «якобинской» молодости, как Кочубей, отговаривали императора спешить с освобождением крестьян. А ведь были и такие, как Шишков, который сам в своих записках рассказывает, как Александр в манифесте 1814 года повелел выбросить те фразы, где знаменитый крепостник говорил о связи помещиков и крестьян, «на обоюдной пользе основанной». По свидетельству Шишкова, Александр сказал: «Я не могу подписать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен».
XX
Александр был очень точен и аккуратен. Его мундир был безукоризненно сшит. Он никогда не появлялся даже в домашней обстановке небрежно одетым. Его письменный стол был в идеальном порядке. Бумаги, которые он подписывал, всегда были одного формата. Он любил симметрию до странности. В комнате расставлялась мебель по строгому плану. «Однообразная красивость» военных парадов всегда неудержимо влекла его к себе. Вид немецких городов был ему более по вкусу, чем наших российских. Там больше было симметрии. И пейзаж немецкий был как-то правильнее и пристойнее, чем унылость наших худо обработанных полей или сумрак наших дремучих лесов. Там, на Рейне, все более походило на какие-то милые, давно знакомые картинки в книгах, выписанных когда-то для юного Александра из-за границы добродетельным швейцарцем. Немецкие ландшафты так невинны! Но разве можно разгадать угрюмые сны нашего дикого севера или золотую беспредельность южных степей? Москва, с ее полуазиатским стилем, неприятна Александру. Петербург симметричен и более похож на европейские столицы, но тут ужасные воспоминания, наводящие мучительную тоску. Проезжая мимо замка, построенного Павлом, Александр всегда закрывал глаза. Нет, страшно жить в этом суровом, надменном городе, с великолепным его ампиром. В этом городе есть что-то безумное, жестокое и холодное. А так хочется мира и покоя! И не думать бы вовсе об этих призраках прошлого…
Надо побольше впечатлений — и, если нет войны или конгресса, надо ехать куда-нибудь, чтобы видеть новое, и ехать быстрее. Хорошо, что в России любят ездить, не щадя лошадей и собственного живота. Александр исколесил всю Россию. Перед ним в пестрой панораме неслась, как на крыльях, огромная многообразная Русь. Александр не останавливался подолгу нигде. Он всегда спешил куда-то, и было непонятно, зачем, собственно, путешествует этот странный император.
Александр тяготился тем, что в России не так все благоустроено, как в Европе. Да и в Европе не все достаточно хорошо налажено. Надо бы всем правительствам создать такой порядок, при котором каждому гражданину было отведено свое, определенное место. Пусть он работает известное время на себя, но пусть уделяет и государству, в меру своих сил, нужное время, а государство должно обеспечить ему жизнь. Должны быть дни отдыха. Пусть тогда гражданин веселится. Но и веселье должно быть пристойное и под наблюдением начальства. Надо, чтобы гражданская жизнь походила на военную. В полку каждый солдат знает свое место и свое дело. В армии все гармонично и точно. Нельзя ли как-нибудь сочетать жизнь гражданскую с этой благодетельной военной дисциплиной?
В 1812 году Александру попалась французская книга генерала Сервана, который предлагал проект особых военных поселений на границах империи. Александру эта книга чрезвычайно понравилась. Он решил, что надо воспользоваться идеей французского генерала. Этот Серван как будто угадал мечту самого Александра. Вот когда будет порядок! Вот когда вместо неряшливой и неплодотворной гражданской жизни наступит стройная военная система!
Александр приказал перевести на русский язык книгу Сервана. Дело в том, что Аракчеев не понимал по-французски, а ему надо первому прочесть эту книгу. Кто же сумеет наилучшим образом применить к России план французского генерала? Конечно, он, Аракчеев, верный «друг» царя. Царь вообще нуждался в этом своем «друге».
И какая странная «дружба» связывала этих людей? В чем была ее тайна? Кажется, тайну эту надо искать в болезненной мнительности Александра. Его глухота еще больше подчеркивала ее. Он с трудом мог слышать человека, если он сидел за столом против него. Глухие всегда мнительны. Но для мнительности Александра были основания, более важные, чем глухого. Удивительно, что не все государи страдают манией преследования. Впрочем, кажется, государей, вполне свободных от этого недуга, никогда не было. В какой-то мере болен был психически и Александр.
«Ему казались такие вещи, о которых никто и не думал, — писала в своих мемуарах великая княгиня Александра Федоровна, — будто над ним смеются, будто его слушают только для того, чтобы посмеяться над ним, и будто мы делали друг другу знаки, которых он не должен был заметить. Наконец все это доходило до того, что становилось прискорбно видеть подобные слабости в человеке с столь прекрасным сердцем и умом. Я так плакала, когда он высказал мне подобные замечания и упреки, что чуть не задохнулась от слез».
Александр был мнителен и подозрителен. Однажды Киселев, Орлов и Кутузов, стоя у окна во дворе, рассказывали друг другу анекдоты и смеялись. Мимо прошел Александр. Через десять минут к нему в кабинет вызвали Киселева. Генерал застал Александра перед зеркалом. Император тщательно себя осматривал со всех сторон. Он решил, что смеялись над ним, над его наружностью. «Что во мне смешного? Почему ты и Кутузов с Орловым смеялись надо мною?» — допрашивал мнительный император изумленного и растерявшегося Киселева. Генералу с большим трудом удалось убедить Александра, что дело было в анекдотах, а не в наружности Александра. Подобных случаев было немало. Императора очень беспокоила сплетня, что у него будто бы искусственные ляжки, сделанные из ваты для красоты.
«Без лести преданному» Аракчееву удалось убедить Александра, что он, Аракчеев, вернейший его раб, что все готовы предать своего государя, только он один любит его, как самого себя. Александр поверил. Ведь надо же было кому-нибудь верить. Вельможи и сановники, все без исключения, всегда старались показать, что они не глупее императора. А! не глупее? Значит, тайно они думают, что они умнее его… Они так назойливы со своими советами! Они хотят распоряжаться государством. Но кто их уполномочил на это? Ведь конституции еще нет пока… Аракчеев никогда не решался учить Александра. Он, правда, высказывал свей мнения, но всегда лишь по частным вопросам. О высшей политике у него не было совсем своих мнений. Он был старше Александра на восемь лет, но он трепетал перед ним, как мальчишка. Входя в кабинет, он бледнел, вздрагивал и крестился, как будто он не временщик, фаворит, всесильный граф Алексей Андреевич, у которого государственные мужи, убеленные сединами, дожидаются в приемной три часа аудиенции, а робкий проситель, в первый раз попавший во дворец.