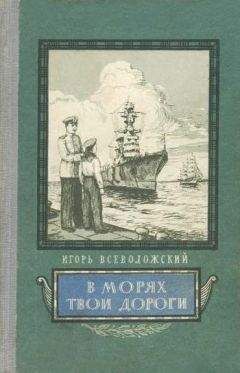Игорь Всеволжский - Ночные туманы
Превыше мелочных забот,
Над горестями небольшими
Встает немеркнущее имя,
В котором жизнь и сердце, - Флот!
Идти над песней непогод,
Увидеть в дальномере цели
И выбрать курс, минуя мели...
Хотелось узнать побольше о Лебедеве, но в училище уже почти позабыли о нем. Со дня его гибели прошло около двадцати лет. Я разыскал в библиотеке рассказ Лавренева:
"Алеша Лебедев приходил ко мне каждую неделю в отпускной день, к вечеру... Особым, только ему присущим движением плеч, легким и быстрым, он освобождался от своей курсантской шинели-однорядки. Приглаживал перед зеркалом дымные вихры, которые сам называл волосами "ослиного характера". Точно и щегольски заправленная фланелевая рубаха с четырьмя узенькими золотыми полосками на рукаве обтягивала его крепкие плечи. От маленького роста Алеши плечи казались непомерно широкими. И забавной увалистой походкой - он сам придумал себе эту раскачку - Алеша шел за мной в кабинет, похожий на детского плюшевого медвежонка с хитрыми пуговками глаз..."
Я ясно себе представлял, как они выкуривали по трубке и Алеша читал своему старшему другу:
...И нам морями дальше плавать,
Владеть любою глубиной,
Наследникам гангутской славы
И зачинателям иной...
Проходя через круглый компасный зал, я задерживался - о нем писал Лебедев. На меня "находило", и я вспоминал:
В скрещении гулком пустых коридоров
Стою и гляжу напряженно вперед,
И ветер холодных балтийских просторов
В старинные стекла порывисто бьет...
Ветер действительно бил в старинные окна.
В кубрике снова читал Лавренева.
"В мае, - вспоминал Лавренев, - он пришел ко мне уже не в курсантской фланелевке, а в новом синем кителе с лейтенантскими галунами. Пришел прямо с выпускного парада, проникнутый бодрящим ритмом марша, свежий, молодой, чистый, как утренняя волна на песчаном взморье.
Он весь сиял... И едва успев бросить на подзеркальник впервые надетую командирскую фуражку, он начал читать мне написанные накануне стихи..."
Не эти ли?
Трудом и боем проверяют душу.
Не отступив, пройди моря и сушу
И уцелей в горниле грозном их...
"Он побыл у меня недолго. Он торопился к девушке, которую любил" ("И ты мне, родная, дороже всех девушек нашей земли, и петли путей и дорожек не зря нас друг к другу вели...") "Он хотел поделиться с ней своей молодостью и радостью..."
Лавренев подарил Алексею дорогую трубку.
"Стремительным рывком он схватил мою руку и смял ее, посмотрел мне в глаза взглядом, который я не умею назвать..."
С этой трубкой, когда началась война, Алексей Лебедев ушел в море. Лавренев получил телеграмму: "Балтийцы раскуривают свои трубки полным накалом за Родину. Привет. Алеша".
Он погиб где-то на траверзе Киля. С его лодки было принято радио: "Потопили транспорт противника 14000 тонн". Потом наступило молчание...
"Мне невыносимо думать об Алешиной смерти", - писал Лавренев.
Мне тоже: Я перечитывал его письма матери:
"Сейчас, в милую осеннюю пору, особенно чувствуешь, как хороша жизнь, как кратковременна она, как бессмысленно уничтожение на войне лучшего, что вырастило и сделало человечество. А между тем выход только один:
драться, драться и драться...
И накануне самого серьезного из походов я не раскаиваюсь, что выбрал себе военно-морскую профессию..."
Какие стихи унес он с собой? Сколько бы написал он о крепкой дружбе морской, о законах морского товарищества, о том, что "лучшим страна доверяет бороться и лучших она одевает в бушлаты..."?
Я сберег его фотографию, вырезав ее из журнала. Для меня он остался всегда молодым.
Мы с Николашей продолжали ходить в гостеприимный дом его тетки. Николаша даже влюбился было в Аннель, наслушавшись ее стихов о любви, и целый месяц ходил подсумленный.
Он признался ей в своих чувствах, но получил отпор.
- Вадим ужасно ревнив, - сказала она, поправляя свои спадавшие на глаза волосы, - а я считаю, что хорошо с ним устроена. Поэтому менять его на курсанта, хотя ты мне нравишься,-йе намерена.
Николай возмутился:
- Подумай, Юрка, такая молодая и какая практичная!
Да, осмотревшись в этой компании, я многое стал замечать, что свежему человеку не придет и в голову.
Постоянно посещавший салон Мадлены Петровны кудлатый напыщенный человек написал всего один в своей жизни сценарий не имевшего успеха у зрителей фильма, а ходит гоголем, грудь колесом и с такой солидностью говорит "я, я, я", что можно подумать, отечественная кинематография без его участия погибла бы вовсе. А другой написал пять толстых романов, до дыр зачитанных в нашей училищной библиотеке, а сидит в углу скромненько, и никто им не интересуется, да, кажется, его и за писателя не считают. (Я хотел было поговорить с ним о полюбившихся мне героях, но постеснялся.)
Некоторые юнцы с вдохновенными лицами, которые ходят по пятам за Вадимом и застенчиво читают, когда он им разрешает, свои вирши, талантливее его. А вот поди ж ты! Вадим на пять корпусов впереди. Подавать себя надо уметь, оказывается, вот что!
Вадим, хотя мы с ним почти что дружили, стал мне казаться неискренним. Подумалось: он пишет свои, на первый взгляд, острые стихи потому, что у нас есть какой-то ничтожный круг юнцов и девчонок, которым такая недобрая острота нравится. Они горласты - Вадиму это и приятно, и выгодно. Как-то я спросил Вадима, вспомнив, что он просил консультации: будет ли он писать о флоте?
Он ответил, поморщившись:
- Терпеть не могу ведомственной поэзии. Сегодня напишешь о моряках, завтра пристанут летчики, послезавтра придут печники, сталевары, за ними парикмахеры, банщики...
Я возмутился:
- Так можно обвинить в ведомственной поэзии и Лермонтова, и Пушкина, и Маяковского!.. О флоте писали отличные поэты.
- Кто, позволь тебя спросить?
- В первую очередь Алексей Лебедев.
Вадим поднял глаза к потолку:
- Алексей Лебедев? Милый ты мой простак, что ты понимаешь в поэзии? Твой Лебедев - сущая бездарь.
Я не выдержал. Мы заспорили. Я ударил его. Ударил за Лебедева, погибшего на траверзе Киля...
Этого не следовало делать. Поклонники Вадима Гущинского накинулись на меня. Произошла безобразная драка. Нежная поэтесса, писавшая лирические стихи, кричала голосом базарной торговки:
- Я добьюсь, чтобы тебя из училища выгнали! Сволочь!
Кто-то уже услужливо звонил из кабинета писатель
ницы по телефону к коменданту города и дежурному по училищу. Я оделся и под негодующими взглядами ушел из салона Мадлены Петровны.
Я совершил несколько преступлений: опоздал из увольнения, пришел пьяным, с большим синяком под глазом (по пути от Мадлены Петровны с горя зашел в забегаловку). Разумеется, всего этого мне не простили.
Да я и сам бы никому не простил. Поэтому возмездие принял, как должное, хотя сердце было готово разорваться на части.
Ущемленный, покидал я училище. Получил назначение без радости. Наказание вполне заслуженно, но оно было столь явным, столь заметным для всех, что приводило меня в исступление и в уныние. Мне казалось, каждый встречный обращает внимание, что на новеньком кителе, еще топорщившемся в плечах, на погонах вместо двух блестит всего одна звездочка и каждый встречный догадывается: я в чем-то провинился, наказан.
Это отравляло существование. Иногда даже находил страх:, как меня встретят на флоте начальники? Может быть, сразу бесповоротно запишут в разряд проштрафившихся, не дадут выдвинуться? Одно утешало и радовало:
соединение, куда я еду, - то, о котором мечтал. В него входят и ракетные катера. В основном же катера в нем торпедные, на них я проходил практику и стажировался.
На них-то я и попаду.
И вот я простился с городом, в котором прожил несколько лет, с училищем - его я успел полюбить, с товарищами, разъезжавшимися по разным флотам. Теперь придется подыскивать новых друзей.
Заехав в Москву, нашел мать постаревшей и очень встревоженной. Шиманский представил какие-то доказательства, что отец присвоил его работы. Теперь все открытия, связанные с именем отца, могут стать открытиями Шиманского.
Он давно не бывал у нас в доме. Мать сказала, что как раз с той поры, когда она передала ему все отцовские записи.
Я зашел на Чистые пруды к деду с бабкой. До чего неумолимо расправляется с людьми время! Дед вышел на пенсию, сгорбился и совсем поседел, а бабка уже не ершилась и занималась вязанием. Трудно было подумать, что эта тихая старушка вдохновляла кавалеристов на подвиги!
Разговор с дедом был очень нелегок - старик мигом заметил мою одинокую звездочку. Пришлось покаяться.
Дед покачал головой ("Не с того конца начинаешь ты службу"), но выразил все же надежду, что моряк из меня получится, и просил почаще писать.
Мы выпили с ним по рюмке домашней настойки, бабка угостила нас пирогом. Дед сказал:
- Напиши, как живет Севастополь.
У бабки глаза заблестели. А дед принялся вспоминать миндаль, дивным розовым облаком цветущий на бульваре над морем, здания из известкового камня, лестницы, спускающиеся к синей воде, корабли в бухтах. Все помнил он так же отчетливо, будто видел вчера, а не сорок лет назад.