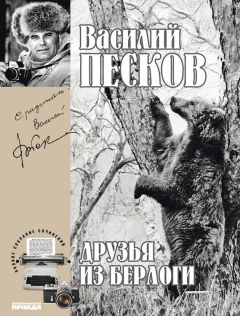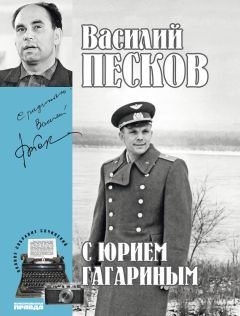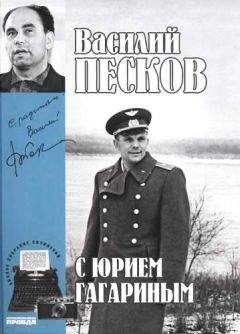Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 11. Друзья из берлоги
С.: Возможно, тут был элемент случайности, но, скорее всего, все же нет. Наверно, важно было заново перечитать книгу, в которой трагедия войны была показана правдиво и сильно.
К. М. Симонов, конец войны.
П.: Узловые точки войны… Чем Вам запомнился Сталинград?
С.: Сталинград… Сталинград был для всех нас тогда сначала огромных размеров болью — шутка ли, немцы на Волге! Потом огромных размеров радостью: появилась твердая уверенность — одолеем!
В критической своей точке Сталинград был для меня символом крайней опасности. Признаюсь: летел туда с боязнью. Казалось, вот там как раз и убьют.
Когда наступил перелом, у меня, кроме памяти обо всем, осталось еще ощущение какого-то абстрактного звука. Мы все тогда ясно услышали: в немецкой машине войны что-то хрустнуло, надломилось.
И все мы после Сталинграда несли в себе ощущение счастья. Ощущением этим была потребность делиться. В те дни мне в руки попала рукописная листовка с надписью «Молитва» и припиской: «Если ты верующий — перепиши».
А на обратной стороне мелким почерком — сталинградская сводка. Моя редакция, пользуясь затишьем на фронте, дала (невероятная щедрость по тем временам!) два месяца отпуска написать повесть о Сталинграде. Я писал лихорадочно быстро, с огромным подъемом, завалив телефон подушками. Думаю, всем тогда хотелось излиться. Есть в моем Дневнике такая вот запись. Приведу ее в сокращении…
«Вечером довольно поздно ко мне заглянул командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко.
— Пришел к тебе как к спецу своего дела, хочу спросить совета.
Я был озадачен: в каком смысле спец? И что могу посоветовать?
Выпив чаю, Еременко неторопливо вытащил из кармана очки, потянулся за портфелем.
— Написал о Сталинграде поэму, — сказал он. — Хочу, чтобы послушал и посоветовал, как быть, кому отдавать печатать?
Я оторопел. Ждал чего угодно, но только не этого. По своей натуре я склонен верить в чудеса, в те счастливые «а вдруг», которые редко, но все же происходят в жизни. «А вдруг в самом деле поэма?»
Опущу торжественное чтение поэмы и мое величайшее затруднение после чтения сказать будущему маршалу правду, которая, конечно же, очень его огорчила.
Он только спросил.
— И печатать это, по-твоему, нельзя?
— По-моему, нельзя, тем более вам.
Очень долго молчали. Потом Андрей Иванович сказал:
— Еще стакан чаю налей…»
Вот такой курьезный и трогательный эпизод, говорящий о том, что радость победы всех нас тогда окрыляла.
П.: На фотографиях в Дневнике видишь людей с петлицами, а потом вдруг — погоны. Форма отразила многие перемены в армии. Нельзя ли несколько слов о солдате сорок первого и, скажем, о солдате сорок четвертого? В чем разница?
С.: Солдат сорок четвертого — сорок пятого годов был солдат наступающий: уверенный в себе, бодрый, смекалистый, дерзкий. Он уже не боялся окружения — сам окружал. Он не боялся уже немецких автоматчиков — сам на броне с автоматом ехал. Уже не его брали в плен — он брал в плен. Добротнее стала еда у солдата, песни стали другими. В начале войны были: «Огонек», «Землянка», «Темная ночь», теперь — «Хороша страна Болгария…», «Эх, как бы дожить бы…»
Форму с погонами встретили с интересом, можно сказать, с удовольствием. И я не был тут исключением. Помню, с радостью послал фотографию матери — подполковник! Форма действительно отражала качественные перемены нашего войска.
П.: Константин Михайлович, Вы пишете: «У каждого из воевавших от начала и до конца войны был на ней свой самый трудный час». И у Вас тоже?
С.: Да, можно припомнить очень нерадостные моменты… Для меня это в первую очередь первые дни войны — забыть невозможно! Это еще и Керчь весной 42-го. Наверняка не я один вспоминаю тягостное ощущение большой трагической неудачи. С содроганием вспоминаю непроходимую грязь, низкое мокрое небо, сотни людей, полегших на минном поле. Помню, еле-еле добрался вечером до соломы в какой-то халупе. Не ел с утра. Но поесть не было сил…
Запомнился очень печальный вечер в Эльтоне, проведенный там перед тем, как двинуться в Сталинград. Было отчаянное ощущение загнанности на край света и громадности пройденных немцами расстояний.
И позже, уже в Сталинграде, был день…
В небе с утра до вечера висела немецкая авиация и бомбила все кругом, в том числе едва заметную возвышенность, на которой мы сидели.
Было так тяжело, что даже не лежала душа что-нибудь записывать, и я, сидя в окопе, только помечал в блокноте палочками каждый немецкий самолет, заходивший на бомбежку в пределах моей видимости. И таких палочек к закату набралось триста девяносто восемь…
П.: А дни счастливые…
С.: Их было много. По большей части они совпадали с днями, которые всех нас тогда радовали. Но можно вспомнить что-то и личное…
Есть под Москвой городишко Михайлов. Не забуду того радостного чувства, с которым я въезжал в него. Это было зимой 41-го. Городок был буквально забит немецкими грузовиками, танками, броневиками, штабными машинами, мотоциклы валялись целыми сотнями. Это было свидетельство: немцев бить можно, и мы будем их бить.
Если же говорить о каком-то особом проявлении чувств, то помню лагерь наших военнопленных под Лейпцигом. Что было! Неистовые крики: наши! наши! Минуты, и нас окружила многотысячная толпа. Невозможно забыть эти лица исстрадавшихся, изможденных людей. Я взобрался на ступеньки крыльца.
Мне предстояло сказать в этом лагере первые слова, пришедшие с Родины. Слова, которых тут не слышали — кто год, а кто два, три, почти четыре. Чувствую, горло у меня сухое. Я не в силах сказать ни слова. Медленно оглядываю необъятное море стоящих вокруг людей. И наконец, говорю. Что говорил — не могу сейчас вспомнить. Потом прочел «Жди меня». Сам разрыдался. И все вокруг тоже стоят и плачут… Так было.
П.: О днях, венчающих войну…
С.: Мы ехали, помню, по дороге вблизи Берлина и сразу увидели и услышали отчаянную стрельбу по всему горизонту трассирующими пулями и снарядами. И поняли, что война кончилась. Я вдруг почувствовал себя плохо. Мне было стыдно перед товарищами, но все-таки в конце концов пришлось остановить «виллис» и вылезти. У меня начались спазмы в горле и пищеводе. Всю войну ничего — а тут нервы сдали. Товарищи не смеялись, не подшучивали, молчали.
П.: Константин Михайлович, несколько слов о заключительном акте Победы.
С.: Об этом много рассказано. Но тем не менее об этом всякий раз просят опять рассказать.
Во время подписания акта о капитуляции я с особенным интересом наблюдал Жукова и Кейтеля. Кейтель то сидел неподвижно, глядя перед собой, то вдруг чуть поворачивал голову и смотрел на Жукова. Так повторялось несколько раз. У меня невольно мелькнула мысль: конечно, Кейтелю любопытно увидеть вот так, в десяти шагах, человека, личность которого, несомненно, давно занимала его.
Жуковым я любовался. Полное достоинства лицо сильного, красивого человека. В мыслях быстро мелькнул Халхин-Гол. Там я встречался с Жуковым. А потом за шесть лет ни разу его не видел. Могло ли мне тогда, на Халхин-Голе, хоть на минуту прийти в голову, что в следующий раз я увижу его в Берлине, принимающим капитуляцию германской армии…
П.: Читая Дневник, обращаешь внимание на особый, я бы назвал его «стереоскопическим», эффект двойного взгляда на события.
К записям, сделанным в Дневнике, Вы добавляете чьи-то воспоминания об этом же, разысканные позже документы, чье-то письмо, выдержку из военного донесения, датированного тем же числом. Убедительная сила такого сопоставления огромна. И можно лишь смутно представить себе громадность проделанной работы при подготовке дневников, в том числе работы в архивах. Кроме частных интересных и важных находок в архиве, вошедших в издание Дневника, нет ли открытий, принципиально важных в понимании войны?
С.: Вот что меня обрадовало. В нашей корреспондентской памяти часто как бы порознь существуют люди первых месяцев сорок первого года и люди конца войны — люди Висло-Одерской, Силезской, Померанской, Берлинской, Пражской операций. А между тем гораздо чаще, чем на это можно было надеяться, на поверку оказывается, что и те и другие — одни и те же люди! Я обнаружил много имен, знакомых мне по первому году войны.
П.: Но были и грустные открытия?
С.: Да. И много. Очень часто с волнением берешь в руки «дело» знакомого человека, и, как удар, слово: убит.
Горевал, помню, узнав, что погибли сын и отец Кучеренко. В сорок четвертом в Тарнополе я познакомился с командиром дивизии полковником Николаем Пантелеймоновичем Кучеренко. Несколько часов провел на его командном пункте и случайно узнал: адъютант у него — собственный сын. Мне запомнились тогда солдатские строгие отношения между этими людьми… И вот архивный лист ну прямо выпал у меня из рук — убиты! Оба. Стал выяснять обстоятельства и из писем узнал: убиты одним снарядом на наблюдательном пункте. За пять недель до окончания войны.