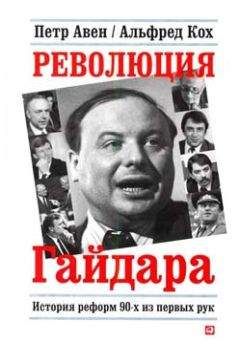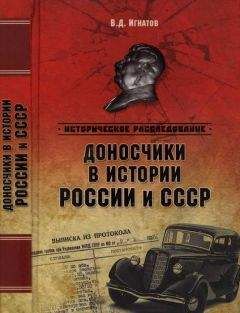Андрей Никитин - Исследования и статьи
В 41-й главе «стоглавого» сборника постановлений собора «О тридцати двух царских вопросах» речь шла о том, как надписывать «Троицу», в то время сюжет излюбленный в русском иконописании. Согласно библейскому преданию, к Аврааму и Сарре, двум праведникам, достигшим преклонных лет, но не имевших детей, однажды явились три мужа, принятые стариками почтительно и гостеприимно. После обильной трапезы один из прибывших предрек, что у хозяев скоро родится сын. Дальнейшее развитие самого сюжета для нашей темы интереса не представляет, и я напомнил о нем только потому, чтобы воскресить в памяти читателей сцену, которая воспроизводилась иконописцами, — три гостя-ангела за столом под сенью Мамврийского дуба с прислуживающими им Авраамом и Саррой. Ограничусь только одним замечанием: трактуемая первоначально как идеал вознаграждаемого гостеприимства, со временем «Троица» стала терять свой реалистический антураж — сервировку стола, сцену заклания барашка на дворе слугами, даже фигуры престарелых хозяев, став изобразительным символом триипостасности божества — «Троицей духовной».
К середине XVI в., когда Стоглавый собор принимал свои постановления, накопилось много недоумений как в жизни самой русской Церкви, так и по части иконописания. Одно из них касалось иконографии Троицы и заключалось в следующем вопросе, поданном на обсуждение: «Глава МА, вопрос А: У святей троицы пишут перекрестие, ови у средняго, а иные у всех трех, а в старых писмах и в греческих подписывают святая троица, а перекрестья не пишут ни у единого, а ныне подписывают у средняго IC ХС святая троица, и о том разсудити от Божественных правил, како ныне то писати.
О том ответ: Писати иконописцем иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти»[297].
Если для нас в этом тексте наиболее важным оказывается утверждение, что Андрей Рублев в своих работах придерживался старовизантийских традиций и писал иконы «с древних переводов» (то есть, следуя графическим канонам), а не по собственному «замышлению», то для старообрядцев главную ценность представляло имя, выделенное в ответе. Оно получало своего рода канонизацию, приобретая при этом еще и «знак качества» — единственное имя, указанное собором, так сказать, «на века» почему иконы кисти Андрея Рублева приобретали особую духовную и материальную ценность. Их разыскивали, доверяясь молве или преданию, за ними охотились, их перекупали, и каждая такая икона становилась украшением старообрядческой молельни или домашней коллекции.
Никакого достоверного, т. е. научного, критерия для определения икон Рублева не было. И всё же к началу XX в. в среде знатоков сложился совершенно определенный взгляд на «рублевские письма», определяемые как «дымные». По словам Гурьянова, к ним относили иконы:
«…на которых лики написаны тонкослойно с соблюдением крайней последовательности в переходе от освещенных мест к неосвещенным, выглядят определенно зеленоватыми в тенях и моделированы коричневой („темной“) охрой без отметок, т. е. без ударов на наиболее светлых местах для обозначения белою краскою бликов; в соответствии с ликами так же слабо моделированы и фигуры, а контур обозначен лишь тонкой описью»[298].
Основания для такой характеристики «рублевских» икон были. Именно такими перед зрителями представали деисусные чины Благовещенского собора московского Кремля, Успенского собора Владимира, Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — тех храмов, где по свидетельству письменных источников вместе с другими мастерами иконописного дела работал и Андрей Рублев. Однако насколько можно было доверять такой атрибуции?
К началу нашего века все эти памятники древнерусского искусства претерпели неоднократные поновления, искажавшие их красочную гамму и даже, порой, рисунок. Кроме того, обращение к многофигурным ансамблям, составленным из отдельных произведений, делало указанный критерий весьма неопределенным. Древнерусские иконописцы на храмовых подрядах работали артелями, в которых соблюдалось строгое разделение труда: одни специализировались на ликах, другие — на «доличном», третьи — на архитектуре, четвертые — на пейзаже, тогда как «артельщики», чьи имена только и попадают в документы, как тот же Андрей Рублев, его товарищ Даниил или «Прохор с Городца», будучи «знаменщиками», исполняли самую важную часть работы — наносили на доску или на стену храма прорись будущего изображения. Из этого следует, что стилистически выделить работу только одного из них, чтобы определить именно ему присущие особенности, практически невозможно. Следует учесть и другое немаловажное обстоятельство: широкое использование в работе иконописцев прорисей или «переводов», о чем так настоятельно напоминал «Стоглав» в цитированном ответе.
Всё это объясняет, почему, по мере того как разрастался интерес к древнерусскому искусству и накапливались открытия в этой области, мысль исследователей и собирателей всё чаще обращалась к иконе «Троицы», занимавшей главное место — справа от царских врат — в «местном» ряду иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Что этот образ мог принадлежать кисти самого Андрея Рублева, указывали одна из редакций «Жития Никона», написанного Пахомием Логофетом (Пахомием Сербом) в середине XV в., и «Сказание о святых иконописцах», возникшее два с лишним века спустя, где прямо говорилось, что Рублев написал образ «Троицы» по заказу игумена лавры Никона[299]. Естественно было полагать, что этот образ сохранился вместе со всем иконостасом Троицкого собора и был тем самым, на который указывал «Стоглав», поскольку ни о каких других заказанных Рублеву «Троицах» известно не было, как не было известно и о каких-либо перемещениях этого образа.
Архивные разыскания убеждали, что «Троица Рублева», как ее стали именовать в научной литературе, была одной из наиболее почитаемых в монастыре икон, привлекавшей богатые вклады сначала Ивана IV, а затем Бориса Годунова и его семьи. Ее изучение могло дать в руки историков искусства своего рода надежный эталон, сверяясь с которым можно было получить исчерпывающее представление о стиле и методах работы прославленного мастера. Вместе с тем, эти данные позволили бы проводить экспертизу других икон, которые приписывали Андрею Рублеву на основании легенды или расхожего мнения.
Сделать это было не так просто. До конца 1904 г. «Троица» Рублева была спрятана от глаз любопытствующих тяжелой золотой ризой, оставлявшей открытыми только лики и руки англов, восхищавшие знатоков изяществом рисунка и светлостью красок. Последнее заставляло обращаться памятью к более ранним греческим образцам, с которых предлагал писать иконы «Стоглав», что еще раз подтверждало мысль об авторстве Рублева.
Была и другая причина связывать икону с именем знаменитого художника. В отличие от большинства своих предшественников, ее автор отказался от жанровой трактовки сюжета, исключил из композиции Авраама и Сарру и оставил за столом только трех ангелов, сконцентрировав, таким образом, на них всё внимание зрителя. Собственно говоря, это был уже новый сюжет, полный символики и глубины толкования, изображающий триединое совершенство божества, а не традиционное «гостеприимство Авраама»[300]. Подобный иконографический тип «Троицы» был знаком историкам искусства, однако все остальные иконы этого типа оказывались написаны несколько позже, чем эта. Возникало естественное предположение, что прославленный мастер первым ввел этот тип в русскую иконографию, заслужив признательность и восхищение современников, которые и стали копировать образец. Оставалось только увидеть саму икону.
Когда В. П. Гурьянов, сняв три слоя напластований, открыл авторский слой (как выяснилось при повторной реставрации в 1919 г., в некоторых местах он до него не дошел), и сам реставратор, и очевидцы его открытия испытали настоящее потрясение. Вместо темных, «дымных» тонов темнооливкового вохрения ликов и сдержанной, суровой коричнево-красной гаммы одежд, столь привычной глазу знатока древнерусской иконописи того времени, перед пораженными зрителями открылись яркие солнечные краски, прозрачные, поистине «райские» одежды ангелов, сразу же напомнившие итальянские фрески и иконы XIV, в особенности — первой половины XV века. «Троица Рублева», как оказалось, не имела ничего общего с привычным византийским каноном, воспринятым и переработанным к этому времени московскими мастерами. Среди темных одежд и строгих ликов прочих икон первой половины XV в., «Троица» представала подлинным «светом Фаворским», вполне достойным и сюжета, поскольку он должен был изображать триединство «неизреченного и неописуемого» божества, и художника, прославленного преданием.