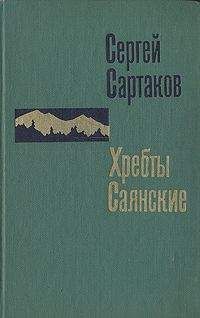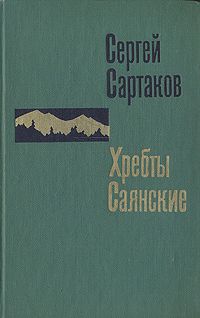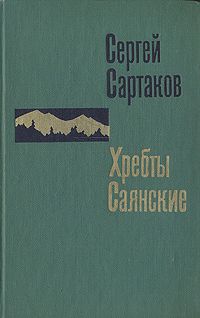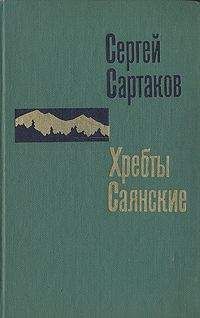Сергей Сартаков - Ледяной клад
- Зря ты это. Мишка не такой, - укоризненно сказал Максим, разминая покрасневшие на резвом морозце уши. На работу он явился в кепочке.
- Такой не такой, а ночь прогулял все же. От факта никуда не денешься, - сказал Болотников.
- Ну, а потом что? - с интересом спросила Женька Ребезова, не сводя глаз с Максима и потуже натягивая на голову его шапку. - Вместе были мы с Мишей. К реке, к Читауту ходили. По соснячку. Деревья вы-ысо-кие! Все в снегу. Где теперь мой Миша? Спит еще? И все на коленочках, головой в подушку?
Вступился Саша Перевалов.
- За Ингут чего-то побежал! На метеопункт послал начальник.
- К нам? - удивилась Феня. - Зачем?
- Познакомиться с твоими родителями. Благодарность получить, - с ядовитинкой объяснила Ребезова. - Разве не заслужил?
Феня сердито махнула рукой, ей не нравилась Женькина развязность.
Появился Шишкин. Высокий, сухой, с длинным, узким лицом и строгим голосом. Коротко поздоровался. Сразу приступил к делу.
- Мужики - пилить дрова, женщины - костры разводить. Ну-ка, кто-нибудь двое, вот вам шнур, натяните - определим, где класть огонь, землю таять, ямки рубить.
За концы шнура схватились Женька и Максим, утопая по колено в снегу, потащили в разные стороны.
- Евгенья - правей, Петухов - подойди вперед, - командовал прораб.
Зазвенела пила, глухо забухали колуны, разбивая длинные чурбаны на поленья, заблестели лопаты, выбеленные сухим, сыпучим снегом. Потянулся дымок от первого костра.
Павел Болотников вырубил и затесал четыре кола, забил их, где показывал прораб, а Максим с Женькой Ребезовой при помощи того же шнура стали с угла на угол выверять "косину" будущего дома.
Прилежно раскапывая глубокие снежные сугробы, Феня думала, какой он все-таки особенный, этот Михаил. Как неодинаково держал он себя тогда, в домике на Ингуте, и потом, когда по ночной тайге тащил ее на спине, весь разгоряченный, не понимая, почему другой человек коченеет все больше и больше. Переехав с Максимом на рейд, он ни разу не зашел справиться о ее здоровье, он и вчера в красном уголке все время букой стоял у стены, но до конца вечера все-таки не ушел и (Феня была в этом уверена) беспрестанно поглядывал на нее. Где он провел ночь? Глупости болтает Павел! Не был он ни с какой девушкой. Женька тоже врет! А вообще зря, совсем зря он строит из себя такого серьезного. Попроще бы! Максим Петухов постоянно твердит "мы с Мишкой". Характеры у них разные. А все же душа в душу живут. И суровость, строгость Михаилова этому никак не мешает. Отец говорит: "Самая тесная дружба и самая нежная любовь - у людей с различными характерами". Фене стало даже смешно, ей представились рядом Женька Ребезова с Михаилом. И тут же вдруг почему-то она попробовала, поставила себя на место Женьки. Сделалось немного жутко, но хорошо.
Женька Ребезова выделялась среди девчат. Все были в платках, она - в шапке. А у Максима в кепочке голова зябла. Хорошо, что в запасе у него кепка была, иначе - хоть в Женькином платке на работу ступай. И хорошо еще, что никто из ребят не заметил у него платка под подушкой, успел он утречком потихоньку припрятать его в чемодан. Девчата дивились на Женьку: чего ради шапку надела?
- Теплей и удобней, - объясняла она.
А Максиму ни слова. Будто было все как надо, будто собиралась она так до конца зимы и проходить в его шапке. И Максим чувствовал: она это могла сделать. Женщины носят - ничего! - и штаны и шапки. Попробуй парень повязаться платком! Максим не знал, как повести разговор с Ребезовой, как вернуть свою шапку и где отдать ей платок. Женька все время оказывалась поблизости от Павла Болотникова, при котором такой разговор был совершенно невозможен. Максим, конечно, купил бы себе новую, но, как всегда, на беду в орсовском магазине зимой торговали трусами, тапочками и соломенными шляпами, а шапки обещали завезти только к весне.
Так Максим провертелся до самого обеда. К этому времени была расчищена от снега площадка, забиты колья, обозначавшие места, где копать ямы, и на этих местах зажжены два десятка костров.
- Надо бы постеречь огонь, - сказал Шишкин. - А то, пока ходим в столовую, костры развалятся, ни черта земля и не оттает. Ну-ка, кто потеплее одетый? Ты, что ли, в шапке, - показал он на Женьку.
Максим моментально прицепился к словам прораба.
- Могу и я Ребезовой подсобить. Потом пообедаем.
Женька пренебрежительно повела плечами.
- Да чего тут двоим делать? И у костров, наоборот, жарко. Вот Максим в своей легкой кепочке пусть один и остается, греется.
- Ну, как знаете, - сказал прораб. - И вправду, оставайся один, Петухов.
- Из-под кепочки у него не уши - петушиные гребешки торчат, - ласково прибавила Женька. - Как бы не отвалились.
Все дружно захохотали. Максим растерянно схватился за уши, действительно пылающие от мороза, наверно, как петушиные гребешки. Он остался в дураках вдвойне: упустил Женьку, глядишь, по дороге в столовую и поговорили бы; и упустил вкусный, хороший обед - будешь потом один хлебать холодные остатки. А Женька о чем-то пошепталась с Феней, сдернула шапку с головы, помахала ею, с приплясом сделала на дороге маленький круг и запела:
Ох ты, шапочка моя,
Люблю тебя я, теплаю.
У сосеночки миленочка
Теперь я не прохлопаю.
Подхватила под руку Феню и пошла с нею позади всех, беспечно помахивая шапкой. Волосы у Женьки слегка растрепались, вились словно тонкие струйки дыма от костра.
А Максим стоял как замороженный. Что же это такое? Выходит, Женька о вчерашней прогулке всем теперь раззвонит! Ведь сама же повела к берегу, сама платок ему повязала и шапку взяла, сама влезть на сосну заставила. А теперь...
Поправляя длинные поленья, стреляющие острыми угольками, он ходил от костра к костру и, прячась от горького, едкого дыма, все время видел тонко вьющиеся Женькины волосы и вспоминал их запах, совсем не горький, а похожий на вкусную хлебную корочку. Глаза у Максима застилало слезой, утираясь, он размазывал по щекам хлопья сажи и не замечал этого. Ворошил в кострах поленья и повторял: "Ну, скажи, пожалуйста! Скажи на милость! А? В частушечку свою поместила..."
Он не понял главного: частушка пелась не о том, что было, а о том, что еще быть должно.
11
Лида положила на стол заново перепечатанный приказ и стояла, хмурясь, покусывая губы. Цагеридзе бегло пробежал по бумаге глазами. Напечатано все правильно. Лида была превосходной машинисткой. Она не только не делала собственных опечаток, но даже, ничего об этом не говоря начальнику, исправляла все его орфографические ошибки, которыми он иногда грешил.
- Вы чего ожидаете, Лидочка?
- А подписать. И я подошью.
- Мне придется, наверно, заплатить за испорченную бумагу и за все повторные перепечатки, Лидочка, но, кажется, и этот вариант мной не будет подписан. Хороший документ должен жить, а само слово "подшить" уже означает смерть для приказа. Поэтому смело можете его подшивать.
Цагеридзе был в приподнятом настроении. Ему хотелось шутить. Но он уже знал, что Лида шуток не любит. И сейчас она глядела на него серьезно, не понимая, как ей все-таки поступить с приказом. Нельзя же подшить неподписанную бумагу! Цагеридзе еще немного позабавился растерянностью Лиды, но подтвердил:
- Да, да, оставьте мне для размышлений только одну копию, а сам приказ в дело или, хотите, - в печь! Ступайте! И посмотрите, как там в красном уголке собираются люди.
Ему было весело и в то же время немного досадно. Он созвал рабочее совещание, пригласил всех желающих, а к разговору на народе был не совсем подготовлен.
Очень много времени пришлось провести с Павлом Мефодьевичем Загорецким, с его записями наблюдений погоды за тридцать лет и с целой кипой фотографических снимков читаутского ледохода. Павел Мефодьевич оказался человеком неторопливым, и, когда Цагеридзе спрашивал его, рассчитывая на самый короткий ответ: да или нет, - Загорецкий все равно доставал из нагрудного кармана толстой суконной гимнастерки очки, надевал их, аккуратно заводя оглобли за уши, некоторое время смотрел на собеседника, потом таким же неторопливым порядком водворял очки на прежнее место и говорил: "Итак, Николай Григорьевич, вы спрашиваете, случался ли на Читауте столь высокий ледоход, когда бы остров, образующий одну сторону акватории запани, не представлял собою препятствий для движущегося льда? Такой ледоход за обозримый период случался дважды. Но отождествлять оба эти случая неправомерно, ибо в тысяча девятьсот двадцать девятом году лед шел поверх острова вследствие общего очень высокого уреза воды, а в тысяча девятьсот тридцать шестом году образовался на Алешкиной шивере совершенно нелепый и, казалось бы, невозможный затор, который, подобно плотине, поднял воду в Читауте, включая и плес реки, где ныне расположен рейд. Я буду совершенно счастлив, Николай Григорьевич, показать вам фотоснимки этих ледоходов и ознакомить вас с моими записями об этих аномалиях. Вот, извольте..." Снова доставал очки и начинал неторопливые поиски. И так на каждый вопрос. Отвечал не просто, а непременно предъявив все имеющиеся у него на этот счет доказательства. Он отвергал обещания Цагеридзе поверить ему на слово: "Нет, нет, позвольте, Николай Григорьевич, почему же на слово? У меня все это очень точно записано. На свою память я не обижаюсь, но единственное, что может не требовать графического подтверждения, это таблица умножения". Но в целом весь разговор с Загорецким вообще-то был полезнейшим разговором. Он очень укрепил замыслы Цагеридзе.