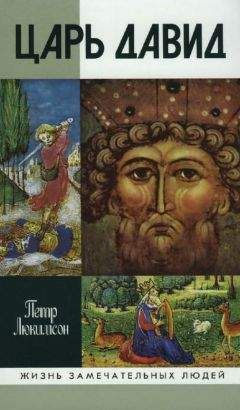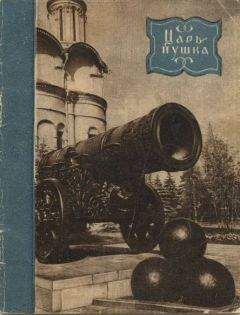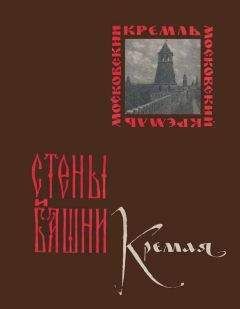Сергей Карпущенко - Лже-Петр - царь московитов
Глаза пожилого управляющего все больше и больше наливались яростью, нижняя челюсть отвисла, мелко тряслась.
- Откуда ты явился, скотина? Ты в своем уме? - с тихим, затаенным гневом спросил он. - Только я вправе здесь казнить и миловать! О, ты будешь наказан очень жестоко, очень!
Петр, не понимая или совсем забыв, что давно уже не смеет приказывать кому бы то ни было, разъяренный угрозами управляющего, кинулся к нему, чтобы или задушить, или забить до полусмерти, но веревка, наброшенная подкравшимся сзади слугой ему на шею, мигом заставила его захрипеть, задергаться в бесплодном порыве освободиться от удавки. В глазах у него потемнело, комната закачалась, стал наваливаться потолок, и уже сквозь полумрак бесчувствия Петр услышал:
- Свяжите этого царька покрепче да и отнесите-ка в подвал. К вечеру я придумаю, как наказать его...
Конюшня у господина Мейера была отличной, наверно, самой лучшей во всей округе, но главным её богатством управляющий считал четырех баварских битюгов, костистых, рослых, мохноногих, которых он никогда не заставлял тащить плуг, возить тяжелую поклажу. Этих коней, гордость своей конюшни, Мейер лишь изредка проводил по главной улице деревни, чтобы щегольнуть ими перед крестьянами, часть которых в этом году и вовсе оказалась безлошадными. Но наконец ломовикам нашлась работа - и на этот раз Мейер не дал маху, он решил ещё раз продемонстрировать крестьянам свою власть над ними, наказав ворвавшегося в его дом человека, а заодно и силу битюгов, чтобы не думали, будто они лишь с виду хороши, а на самом деле с каким-нибудь изъяном и малосильны.
Работы в поле давно закончились, а поэтому созвать крестьян на казнь не представляло труда. Мужики, их жены, дети стояли вокруг дощатого помоста, на котором в одних коротеньких портках лежал мосластый, долговязый человек. С четырех углов помоста, перебирая толстыми ногами, топтались баварские битюги с надетыми на шеи хомутами. Четыре конюха господина Мейера копошились рядом.
- Да это же фигляр, что называл себя русским царем! - говорил кто-то в толпе крестьян, приглядываясь к распростертому на помосте человеку.
- Ну, точно он! Что же он такого сделал? Ах, бедный! Я ему тогда дала два крейцера...
- Говорят, - приглушенно кто-то сообщал соседу, - что он вступился за нашу Эльзу.
- Ну, так не пощадят его...
Из дома вышел Мейер в сопровождении челяди. Подошел к крестьянам. Был он одет в богатый праздничный кафтан, седые волосы завиты ради важности минуты. Вдруг раздался крик Петра, заворочавшегося на помосте, к которому он был притянут толстыми веревками:
- Христиане, не казните-е! Не казните-е! Что я худого сделал?! За девку заступился! Если убьете, то не простит вам Русь смерти царя Петра!
И в толпе крестьянской снова зашептались: "Вот видишь, опять он про свое. А может, и впрямь сам русский царь какими-то судьбами к нам забрел?"
Но громкий голос господина Мейера перекрыл ропот толпы. Управляющий вынул из кармана листок с приговором, который сам же написал накануне, и зачитал его, обвиняя бродягу, назвавшего себя Петром, в том, что тот вломился в его дом, как видно, с целью грабежа, набросился на господина управляющего, - неслыханная дерзость! - и уже душил его, но, к счастию, был схвачен слугами. За такое преступление бродяга Петр приговаривался к смертной казни через четвертование при посредстве коней. Управляющий не преминул подчеркнуть, что казнь сия по причине огромной силы его коней будет почти мгновенной, а посему и милосердной. Потом он крикнул конюхам: "Начинайте!", и те, переглянувшись, будто согласовывали друг с другом мгновенье, разом повели коней в разные от помоста стороны.
Тяжелые копыта битюгов вминались в землю. Лошади, выгнув шеи колесом, напряглись всем телом, понукаемые идти впереди, но тщетно они пытались сделать это - распластанный на помосте человек, руки и ноги которого были растянуты тугими, как струна, ременными вожжами, скрипя зубами, вперившись в синее осеннее небо страшными, готовыми вылезть из орбит глазами, напрягая мышцы, связки рук и ног, сдерживал ход битюгов. Все, кто был рядом, видели, как тяжело ему делать это, как вздулись жилы на руках и ногах, как выгнулась его грудная клетка, и все, будто испытывая это нечеловеческое напряжение, затаили дыхание, жалея казнимого. Многие думали сейчас, что недаром этот человек именовал себя царем - только цари и могут пересилить четырех ломовых лошадей, а перед этим без страха вступиться за обиженного человека.
- Погоняй лошадей! Погоняй! - заорал вдруг Мейер, досадуя, что бродяга все ещё не разорван на части, и его битюги могут показаться крестьянам малосильными клячами.
Конюхи, повинуясь, громче закричали "но! но!", таща битюгов под уздцы, по тут раздалась другая команда, и возницы управляющего остановились:
- Казнь сейчас же прекратить! Человека с помоста снять!
Крестьяне, почувствовав необыкновенное облегчение и радость, повернулись в сторону, откуда раздался этот строгий приказ, - два всадника в голубых кафтанах, в шляпах с султанами из петушиных перьев и с вызолоченными знаками офицеров под подбородком, гарцевали на рослых, красивых лошадях.
- Кто смеет приказывать управляющему имений барона фон Швейнихена? - с достоинством спросил Мейер. - Я казню преступника, покушавшегося на мою жизнь! Не мешайте казни!
Но всадники, вплотную подъехав к Мейеру, не подали и виду, что испугались его окрика. Напротив, один из кавалеристов носком ботфорта с огромной зубчатой шпорой ткнул управляющего в грудь и презрительно сказал:
- Старая ободранная крыса! Мы, лейтенанты гвардейского полка великого курфюрста Бранденбургского, рыщем по всей Пруссии в поисках высоких, ладных молодцов, а ты, скотина, жизнь которой не стоит и ломаного талера, собираешься разорвать на части такого парня! А ну-ка, прикажи развязать его скорее, не то сам ляжешь на эти доски, пес, а уж тебя лошадки разнесут по сторонам быстрей, чем этого Голиафа!
Спустившись с помоста, Петр долго растирал запястья, а гвардейцы с седел, улыбаясь, смотрели на него, восхищенно говоря при этом:
- Черт, хорош молодец! Их величество курфюрст будет прыгать от радости, увидев такого великана.
- Ты прав, Ганс! Но просто невероятно, как этот парень мог сдерживать четырех битюгов? Пожалуй, нужно связать ему руки, а то он запросто накостыляет нам и убежит.
- Да, пожалуй. - И, обращаясь уже к Петру, один из лейтенантов сказал: - Слушай, приятель, сам выбирай: или ты будешь разорван конями, или будешь служить в гренадерской роте гвардейских мушкетеров курфюрста Бранденбургского. Какой тебе дадут мундир, какое положат жалованье! Жратвы у нас довольно, а смазливых и охочих до ласк девчонок в Берлине хоть отбавляй.
Петр, смекнув, что бесполезно говорить гвардейцам о своем царственном происхождении, посмотрел на лошадей, все ещё бивших землю своими огромными копытами рядом с помостом, и сказал:
- Ладно, буду гренадером у Бранденбургского курфюрста. Только руки связывать не надо - не убегу.
Он был уверен, что уж Фридрих III узнает в нем царя и тотчас отправит его в Москву с причествующими его титулу почестями. Босиком, в одних портках, Петр зашагал между двумя блестящими всадниками. Пройдя верст пять, они остановились рядом с большой корчмой, во дворе которой под караулом сидели на соломе с полдюжины молодых парней.
- Капрал! - крикнул лейтенант, прыгая с седла на землю. - Вот тебе ещё один придурок деревенский, из которого нужно вылепить солдата. Приодень его да накорми. Три талера аванс за полмесяца службы. Дай ему их. Если проиграет или пропьет - прогоним через строй.
Петр, так и стоявший посреди двора в одних подштанниках, стиснул кулаки. Он знал, как в армиях германских государств провинившихся солдат прогоняют сквозь строй, и быть подвергнутым этой постыдной, мучительной процедуре показалось для него куда более неприемлемым, чем даже четвертование при помощи коней.
"Ничего! - утешил он себя. - Только бы добраться до Берлина, а там..."
Одетых в простую крестьянскую одежду, навербованных за серебро, соблазненных прелестями беззаботной солдатской жизни, напоенных в кабаке, а потом связанных и привезенных к месту сбора, будущих солдат курфюрста Бранденбургского гнали по осеннему бездорожью около месяца. По дороге к небольшой вначале команде присоединялись новые жертвы расторопности вербовщиков, и к воротам Берлина их подвели уже в количестве трех десятков человек. Петр с надеждой думал, что их сейчас же поставят перед самим курфюрстом Фридрихом, но ошибся - деревянные казармы на самой окраине города, длинные, с выбеленными известкой стенами, должны были стать их тюрьмой.
Приведенных новобранцев капрал быстро выстроил в шеренгу по ранжиру, причем Петр оказался правофланговым, потому что был выше всех. Скоро раздалаcь громкая, трескучая команда, и перед шеренгой появился красивый, как фазан, офицер. В островерхой гренадерской шапке с золоченой бляхой, с тростью в руке, в алом капитанском мундире с золотыми галунами, весь напомаженный, ротный командир, гордо откинув породистую голову, прхаживался вдоль строя, присматриваясь к тем, кто должен был влиться в его подразделение. Дольше всех он рассматривал Петра, наклонял голову, водил ею туда и сюда, будто любовался прекрасной картиной, потом цокнул языком, щелкнул пальцами и вдруг сказал: