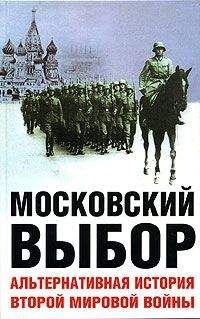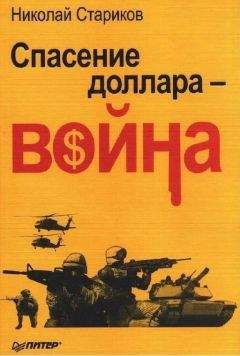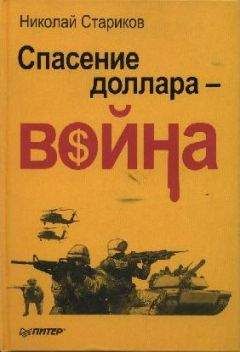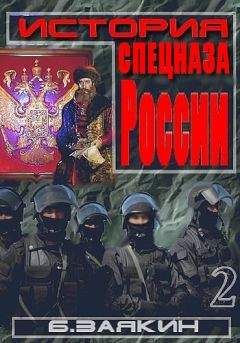Хаген Шульце - Краткая история Германии
Не политическая устойчивость и не мнимая экономическая стабильность сделали средний период истории Веймарской республики «золотыми двадцатыми годами», а взлет культуры, до сих пор сохраняющий легендарные черты. Это было время невероятного духовного напряжения и творческого художественного подъема: от «Баухауза»[56] Вальтера Гропиуса до «Волшебной горы» Томаса Манна, от «Кардильяка» Пауля Хиндемита до принципа неопределенности Вернера Гейзенберга, от «Заката Европы» Освальда Шпенглера до «Лица господствующего класса» Георга Гросса, от волновой механики Эрвина Шрёдингера до «Голубого ангела» Йозефа фон Штернберга, от «Рабочего» Эрнста Юнгера до «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Все это и многое другое клубилось на протяжении десятилетия, образуя мерцающий, сверкающий калейдоскоп неслыханных форм, цветов и тем.
Тем не менее «культура Веймара» была также мифом, рожденным в пражских и парижских кафе, колониях эмигрантов в Нью-Йорке и Калифорнии после бегства и лишения гражданства многих интеллектуалов, придававших особую форму и цвет 20-м годам. То, что казалось экзотическим цветком республики, растоптанным в 1933 г. сапогами штурмовиков, в действительности зацвело гораздо раньше.
Культура веймарского периода уходила своими настоящими корнями в авангард вильгельмовской Германии, в беспокойство, охватившее буржуазную интеллигенцию на рубеже веков. Двадцатые годы не породили, собственно, ничего нового. Новое заключалось лишь в том, что официальный буржуазный академизм очистил поле, уступив место прежним аутсайдерам. Это произошло с утратой равновесия буржуазным обществом как формирующим стиль «класс для себя», с потерей буржуазного чувства собственного достоинства в результате проигранной войны и экономической катастрофы, вызванной инфляцией. Таким образом, новое искусство вовсе не было народным. Из 34 названий немецких книг, продававшихся с 1918 по 1934 г. миллионными тиражами, только три можно в определенной степени приписать «веймарским» литераторам: «Эмиль и сыщики» Эриха Кёстнера, «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, а также «Будденброки» Томаса Манна, вышедшие, правда, в 1901 г. Массовая аудитория читала совсем других писателей: Германа Лёнса, Ханса Кароссу, Вальтера Флекса, Ханса Гримма или Клару Фибих, а тривиальные романы Карла Мая или Хедвиг Куртс-Малер имели самый большой успех у публики. Художественный подъем веймарской Германии был, как и все остальные культурно-исторические взлеты, чисто элитарным явлением. Все происходило в узком кругу литераторов, художников, музыкантов, мыслителей, меценатов, потребителей культуры, принадлежавших к более высоким социальным слоям, находившимся между образованной буржуазией и богемой.
* * *«МЕТРОПОЛИС»
На волне настоящей «киноэпидемии» все более широкие масштабы приобретала немецкая кинопромышленность. Германия произвела в 20-е годы больше фильмов, чем все остальные европейские страны, вместе взятые. Наряду с большим количеством низкопробной продукции были созданы и некоторые выдающиеся художественные произведения, как, например, показанный впервые в 1927 г. утопический немой фильм Фрица Ланга «Метрополис», премьера которого состоялась в 1927 г. Это был пример фильма, осмыслявшего современный мир труда, не принесшего, однако, кассового успеха.
Это была в высшей степени буржуазная культура, зараженная, однако, антибуржуазными настроениями и сформировавшаяся под воздействием мировой войны. «Левые» сделали вывод, что всякое убийство, все военное и любая униформа злы и бессмысленны, социализм же, напротив, добр. Такой человек, как Карл фон Осецкий, издатель журнала «Вельтбюне», боролся за республику во имя морали и прав человека, хотя и не за существовавшую Веймарскую республику, которая ему, как и многим другим интеллектуалам эпохи, казалась компромиссной, незавершенной, скучной и буржуазной. Он выступал за грезившуюся ему социалистическо-пацифистскую республику, ради осуществления которой был готов призвать к избранию президентом руководителя КПГ Эрнста Тельмана.
В другой части культурного спектра находились «правые», взгляды которых также стали следствием военных переживаний, правда вызвавших противоположное осмысление. Правые рассматривали войну не как арену, где совершались бесчеловечные жестокости, а как огненную грозу, в которой из крови и железа выковывался новый человек. Правые интеллектуалы вроде Эрнста Юнгера также атаковали республику, используя любые возможности во имя остававшегося неясным солдатско-национального, а часто и социалистического идеала. Неясность цели вела к тому, что многие из них оказывались в фарватере Гитлера, который, во всяком случае, понимал, что следовало подразумевать под «национальным», а что под «социалистическим». Только немногие, в том числе Юнгер, оставались одиночками.
К крайне левым и крайне правым относилось значительное большинство веймарской культурной сцены — в программном отношении враждебные, диаметрально противостоявшие друг другу и все же единые, если речь шла о том, чтобы издеваться над существовавшим парламентско-демократическим государством и клеветать на него во имя различных политических идеалов и идеологий. Мало кто был готов стать на защиту республики, например Томас Манн, в прошлом ненавистник «буржуазной» демократии, В 1922 г,, выступая перед студентами Берлинского университета, он призвал их к поддержке нынешнего демократического государства, но безуспешно. То был глас вопиющего в пустыне.
Республика едва ли могла рассчитывать на поддержку среди интеллектуалов, и это проявлялось в других областях. Конечно, существовали выдающиеся либеральные газеты, например «Фоссише цайтунг», «Берлинер тагеблагг» или «Франкфуртер цайтунг», до сих пор служащие политическим и журналистским примером не только в политических корреспонденциях и комментариях, но и в отделах литературной публицистики, которыми часто руководили мастера своего дела. Но массовую прессу представляло нечто другое — националистический концерн «Шерль», которому было суждено позже войти в империю газет и кино немецко-националистического короля прессы Альфреда Гутенберга, а главное — местная печать вроде газеты «Генеральанцайгер», ежедневно освещавшая положение в республике с националистически-монархической позиции и с этой позиции нападавшая на нее, Преподавание националистически настроенных старших учителей в гимназиях было нормальным явлением, как и монархически настроенных профессоров в университетах, или проповеди пасторов, придерживавшихся антидемократических убеждений, на церковных кафедрах. Реакционные политические позиции ученых существовали наряду с прогрессивной наукой и техникой. В то время как большинство исследователей обращали взгляд в прошлое, быстроходное судно «Бремен» компании «Северогерманский Ллойд» завоевало «Голубую ленту» за самое быстрое пересечение Атлантики. Реактивный автомобиль Фрица фон Опеля мчался по берлинскому «Авусу»[57], стартовали «Юнкерс» G38, самый большой самолет наземного базирования, и Do X, самая большая в мире летающая лодка. В Берлине было передано первое телевизионное изображение, обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр открыл первую европейскую автостраду — скоростную трассу Кёльн — Бонн, рельсовый дирижабль (айровагон) Круккенберга менее чем за два часа преодолел расстояние от Берлина до Гамбурга.
Но не только у интеллектуалов были трудности в отношениях с государством. Веймарское сообщество не могло быть уверено даже в лояльности своих собственных служителей. Для большой части чиновничества монархизм и консервативное представление о государстве были само собой разумевшимися знаками принадлежности к сословию. Правда, их самосознание предполагало также, что формальная легальность осуществления власти была важнее программы политического господства. Так как пост рейхсканцлера был передан последним кайзеровским канцлером принцем Максом Баденским революционному социалисту Фридриху Эберту, то видимость легальности, а тем самым и лояльность государственного аппарата новым властителям была обеспечена. Поскольку существовало законное правительство, бюрократия во время Капповского путча, несмотря на политические симпатии многих чиновников к режиму путчистов, действовала против Каппа и на стороне Эберта. По той же самой причине административному аппарату суждено было позже остаться в распоряжении рейхсканцлера Гитлера. В остальном чиновничество сохраняло партийно-политический нейтралитет, что не означало его аполитичность. В целом оно имело тенденцию, пусть и неявно выраженную, к авторитарно-этатистскому представлению о государстве. Правительство Генриха Брюнинга (1885–1970) должно было стать весьма близким к этому идеалу. Да и почему должно было быть иначе? Никто не мог ожидать от бюрократии, что она поведет себя в политическом отношении совершенно по-иному, нежели значительная часть населения, которая все больше отворачивалась от республики. Кроме того, создатели конституции отказались от установки жестких норм, на которые должны были ориентироваться государственные служащие. Не чиновничество подорвало фундамент немецкого государственного устройства — там и без него мало что оставалось подрывать. Но оно и пальцем о палец не ударило, чтобы укрепить и спасти этот фундамент.