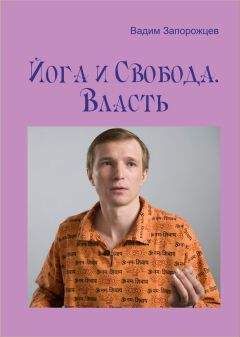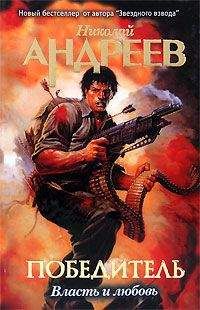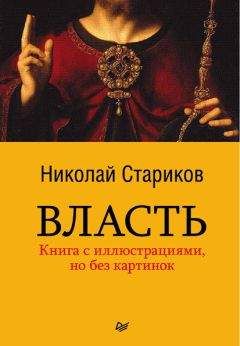Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 1)
Во всяком случае, чувство освобождения было налицо, и оно несло меня в неизвестную даль...
Я ехал в Рязань один; жена с детьми (у меня родился другой сын Сергей) осталась готовиться к полному переселению. В Рязани, конечно, нашлись идейные друзья: они уже знали о моем приезде и устроили меня временно в номере отеля на Дворянской улице. Я вспоминал "дворянское" собрание Нижнего. Потом нашли чудесное помещение на широкой церковной площади, с большим садом, полным плодовых деревьев - в нашем же распоряжении. Я перевез туда свою, уже значительную библиотеку. Обстановка намечалась удобная для работы. Здесь я должен был обработать "Очерки" для "Мира Божия"; отсюда же я посылал в "Русские ведомости" фельетоны {168} о русских интеллигентах 30-х и 40-х годов. Досуга было теперь достаточно.
Рязань не была, конечно, местом одиночного заключения. Здесь я нашел друзей по своему вкусу, и они нашли меня. Два года, проведенные в Рязани, оставили в моей памяти благодарное воспоминание. Особенно сблизился я с семьей видного земского деятеля Елагина, пронесшей сквозь годы реакции действенный идеализм эпохи реформ и непоколебимую веру в конечную победу русских культурных начинаний.
Такие люди составляли "соль" русской земли, хотя история и расправилась с ними немилостиво. Я встретил также самое дружеское отношение в патриархе здешних исторических разысканий, Алексее Ивановиче Черепнине, и его молодом помощнике, Приотцеве. Черепнин был настоящим специалистом по русской археологии; под его руководством я, наконец, научился правильному производству раскопок. Его раскопки в городище Старой, Рязани установили хронологию финского заселения края, и вместе с ним мы копали скудные славянские могильники, причем мне удалось установить некоторые границы колонизации русских племен; доклад об этом я представил Рижскому археологическому съезду. Местная архивная комиссия обладала недурной библиотекой, которую я использовал, вместе с моей, для обработки текста "Очерков" и для изучения рукописных грамот. Словом, я как будто не изменял порядка моей обычной научной работы. Я затем вернулся на свободе к моему любимому занятию музыкой.
В устроенном здесь квартете мне пришлось играть первую скрипку; вторую играл старый немец-учитель, Вернер, страстный и скромный любитель; партию виолончели исполнял Родзевич, брат видного местного адвоката, а альт играл молодой студент. Мы переиграли массу классической музыки. Но этим дело не ограничилось. При помощи военных здесь составился целый оркестр, и в первый раз я принял участие в этой форме музыкального исполнения в роли альтиста. Помню забавный случай: мне не разрешалось выезжать за пределы губернии. Но наш оркестр должен был участвовать в благотворительном концерте в Коломне. Без альтиста нельзя было обойтись. Но Коломна находилась за дозволенной {169} чертой, по ту сторону Оки, в Московской губернии. Губернатору пришлось дать мне особое разрешение на выезд, и Коломенское общество почтило своим вниманием странствующего музыканта. Предпринимал наш квартет и более отдаленные прогулки. Помню нашу поездку, под эгидой любителя музыки Оленина, родственника Олениной-Дальгейм, пропагандистки Мусоргского, вниз по Волге, до завода Гусь, где несколько дней подряд мы играли до полного изнеможения. Я забыл упомянуть, что на этих же берегах мы предпринимали с Черепниным экскурсии для нанесения на карту многочисленных прибрежных городищ. Много их я излазил, составляя планы и собирая случайные находки, подчас очень ценные. Так проходило мое время, в соединении приятного с полезным. Положительно, на эту ссылку мне нельзя было жаловаться, тем более, что меня приезжали навещать сюда мои любимые ученики и ученицы.
Но время шло. Расследование Лопухина должно было прийти к концу и закончиться обычным решением, когда состава преступления не находили: административной высылкой. Одно обстоятельство осложнило мое положение: мне была предложена, после смерти Драгоманова, его кафедра в Софийском Высшем Училище в Болгарии. Опять последовали хлопоты в Петербурге, в которых снова приняла участие моя жена. Результат получился благоприятный. Мне было предложено на выбор: или тюрьма на годичный срок в г. Уфе, или "высылка заграницу" на два года. Очевидно, это было замаскированное разрешение принять болгарское предложение, и в выборе не могло быть колебаний: я принял последнее. Таким образом, срок моего пребывания в Рязани ограничился двумя годами. С ранней весны 1897 года я был свободен. Лекции в Софии должны были начаться с осени. Доступ в Москву всё же был запрещен: мне разрешили лишь проехать с одного вокзала на другой, совсем анонимно, что я и сделал, захватив с собой лишь свой велосипед (я забыл упомянуть, что научился этому искусству в Рязани). Библиотека должна была последовать за мной в Софию.
Я не могу передать того чувства освобождения, которое я испытал, очутившись тотчас после рязанских {170} снегов в мягком климате Вены. Никакого начальства! Записавшись в члены клуба велосипедистов, я получил право свободно разъезжать на своем велосипеде - и воспользовался этим, чтобы обстоятельнее ознакомиться с топографией города и посетить главнейшие памятники. Я только теперь присмотрелся к красотам австрийской столицы, с которыми не мог познакомиться во время спешного переезда в Италию, в 1881 году. Город Гайдна, Моцарта, Бетховена! Город рококо, с которым я на этот раз примирился, после итальянской поездки. И - под покровом католического пресса - какая всё-таки легкость, изящество во всем в этом городе!
Но надо было всё-таки ехать дальше - не в Софию, а в Париж. Моей целью была подготовка к лекциям по всеобщей истории, и я выбрал тему, которая всегда меня привлекала и которую я лучше всего знал по занятиям у Виноградова: переход от падения римской империи к средним векам. Наш Герцен сделал из этой темы параллель между падением классической цивилизации и современным декадансом западного мира: это было для него способом быть зараз славянофилом и европейцем. Я этой точки зрения - грозящей западному миру катастрофы - не разделял и не строил на ней перспектив мирового катаклизма, какие строились также и впоследствии. Но конец римской империи и синкретизм остатков ее культуры с восточным и с германским миром и с моей старой точки зрения представлял богатейший материал для социологических наблюдений между концом одного национального организма и началом другого.
Я, однако, не ожидал найти в Софии достаточного подбора книг на эту тему и рассчитывал воспользоваться библиотеками Парижа. Жюль Легра предоставил в мое распоряжение на время вакаций свою скромную квартиру на Boulevard Port Royal. Я прежде всего направился к патриарху французского славяноведения Луи Леже и получил через него часть нужных книг и дальнейшие указания.
Прием был очень любезный, но не поощрял к продолжению знакомства. Я не предвидел, что на вакациях Париж будет пуст, и я буду предоставлен самому себе. Затем, при первых же шагах, я увидел необозримость материала, меня ожидавшего, и остановился на мысли освежить {171} в голове хотя бы часть материала, мне уже более или менее знакомого. Чтобы выполнить по крайней мере эту задачу, я решил воспользоваться своим невольным одиночеством, не искать знакомств ни в русском, ни во французском Париже - и погрузился в подбор самого необходимого. В значительной степени меня тут выручили Фюстель-де-Куланж и Гастон Буассье, любимая моя книга ("Религия в век Антонинов"), соединявшая строгую научность с яркими параллелями с современностью. Я должен был сократить это вакационное время, чтобы успеть до начала лекций ознакомиться с людьми и с обстановкой моей новой деятельности. Из Парижа я успел еще съездить в Швейцарию для свидания с семьей, которая жила в Бруннене, на Фирвальштеттском озере. Погуляв на Axenstrasse, в местах, ознаменованных преданиями о Телле, мы еще имели время съездить в Интерлакен, Мюррен и к леднику Юнгфрау, чтобы вкусить от горных красот Швейцарии, и затем, уже не останавливаясь нигде, я отправился на место своего служения.
2. БОЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ (1897 - 1899).
Министром народного просвещения, пригласившим меня на кафедру Высшего Училища, был тогда Константин Величков, человек культурный и обходительный, сыгравший известную роль в вопросе об объединении северной Болгарии с Румелией. Со мной был заключен контракт с содержанием 18.000 левов в год то же, что получал и Драгоманов, - и с неустойкой в размере годичного содержания, если контракт будет нарушен. Это были условия, превышавшие обычные оклады собственных профессоров-болгар, и мне предстояло считаться с ревнивым отношением ко мне, как к чужеземцу, - к иностранной "знаменитости", даже не говорившей по-болгарски и вынужденной читать лекции по-русски, на языке, не вполне понятном для большей части студентов. Как сложатся мои отношения со студентами, я конечно, не знал. Но мне посчастливилось сразу войти в семью профессоров, так или иначе связанных с Россией. Самым близким ко мне - и одним из самых выдающихся оказался проф. Иван Шишманов, женатый на дочери {172} Драгоманова, Лидии Михайловне. Шишманов читал лекции по иностранной литературе, был широко образованным человеком, идеалистически настроенным и не чуждым политике. Жена его была писательницей и хранила традиции отца. Ко мне оба отнеслись чрезвычайно дружественно. Через Шишмановых я тотчас же познакомился с Малиновым, уроженцем Белграда, женатым на русской и в политике продолжавшим радикальные традиции Петки Каравелова. Познакомился я и с самим Каравеловым, братом писателя Любена, тогда уже покойного. Оба были окружены ореолом первоначальников болгарского освобождения и болгарской культуры; оба получили русское воспитание, но были противниками официального "руссофильства" русских генералов. Жена Каравелова, соединяющая любовь к России с горячим болгарским патриотизмом, умная и талантливая, считалась нимфой Эгерией мужа, уже престарелого и несколько отяжелевшего; она руководила также женским движением в Болгарии и пользовалась уважением и известным влиянием среди правящих кругов молодого государства. С Каравеловыми и с кругом их политических друзей меня соединяла самая искренняя дружба. Другим профессором, женатым на русской, с которым мы сблизились, был Иван Георгов, профессор философии, принимавший живое участие в македонском движении. Руководителем умеренного течения македонского движения был лингвист проф. Милетич, женатый на хорватке; он был выдающимся ученым и активным патриотом болгаро-македонского объединения. Моим коллегой по всеобщей истории был проф. Д. Агура, более ранний тип преподавателя, когда в Болгарии еще не было высшей школы. Он отнесся ко мне в высшей степени предупредительно и ласково; не было и следа какой-либо ревности в его отношении ко мне; мы познакомились и с его милой семьей. Преподавал болгарскую историю молодой В. Златарский, впоследствии прославившийся детальной научной разработкой своего предмета.