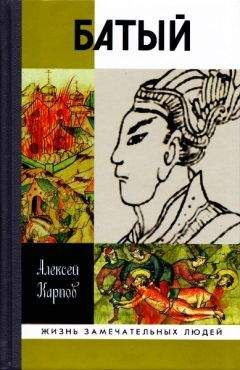Яков Гордин - Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России
Удивительный был человек подполковник Батеньков — при холодном математическом уме много в нем было от Якубовича, который тоже делал вид, что готов на все, а сам втихомолку хлопотал о возвращении в гвардию. Он и сам знал свою двойственность: "Древние греки и римляне с детства сделались мне любезны, но природные мои склонности влекли к занятиям другого рода: я любил точные науки и на 15-м году возраста знал уже интегральное исчисление, почти саморуком".
Неудивительно, что Якубович сделался с октября 1825 года его другом.
Обиды Якубовича и влияние их на его судьбу и поступки нам известны.
Обида Каховского началась, как и у кавказского героя, с изгнания из гвардии.
С полковником Булатовым дело было сложнее. Карьера его шла. Сын знаменитого своей храбростью и количеством полученных ран генерала Булатова, он прошел 1812 год и заграничные походы в строю лейб-гренадерского полка. Его младший брат рассказывал потом: "Он (полковник Булатов. — Я. Г.) был несколько раз ранен в Отечественную войну довольно сериозно в ногу, правую руку и голову, и часто страдал от этих ран, в особенности от головной; рассказывали мне его товарищи (сам он никогда не рассказывал ни своих походов, ни дел, в которых участвовал), что весь израненный, с повязкой на голове, с подвязанной рукою, он вступил в Париж во главе своей роты, салютуя левою рукою на церемониальном марше, при проходе мимо державного вождя русских войск; государь его заметил и пожаловал золотым оружием за храбрость, а французы, смотревшие на вступление русских войск, при виде этого юноши, всего израненного, бодро идущего перед своими солдатами, стали кричать ему: "Виват, храбрец!""
Он и в самом деле был храбр, решителен, резок и обладал, как мы видели в столкновении его с генералом Желтухиным, чрезвычайно острым чувством собственного достоинства.
Он шел обычным путем удачливого гвардейского офицера — командование батальоном в гвардии, чин полковника и полк в провинции.
Так что дело было не в формальном ходе его карьеры, а скорее в ощущениях внутренних — он страдал от общей несправедливости иерархического военного принципа, когда люди, куда менее достойные, с куда скромнейшими, чем у него, боевыми заслугами, смотрели на него свысока — с высоты своих генеральских чинов.
И было еще одно обстоятельство, быть может самое главное, — император Александр в начале двадцатых годов грубо и незаслуженно оскорбил его отца — генерала Булатова. Сын тогда решил убить императора. Отец его отговорил. Для Булатова это было одним из проявлений общего принципа несправедливости, исповедуемого власть имущими.
Якубович, Булатов и Каховский были потенциальными цареубийцами — с разной, правда, степенью серьезности. То, что для Якубовича оказалось мрачной романтической игрой, для Булатова — порывом оскорбленного достоинства, для Каховского было крайним выражением общего мировосприятия.
Штейнгель, Батеньков, Якубович, Булатов, примкнувшие к обществу в последние месяцы, недели, дни, оказались между собой тесно связаны.
Каховский стоял один.
ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. 27 НОЯБРЯК трем часам пополудни присяга Константину в Петербурге завершилась.
Для Милорадовича и его группировки дело было сделано.
Для Николая и близких к нему лиц это был первый — увы, неизбежный — этап борьбы за престол.
Для лидеров тайного общества это было началом ситуации, которую необходимо было довести до взрыва. Во всяком случае — попытаться.
Рылеев показывал: "Вскоре последовала и присяга, — и никаких мер не только невозможно было предпринять, но и сделать о том совещания. Вскоре приехал Трубецкой и говорил мне, с какой готовностью присягнули все полки цесаревичу, что, впрочем, это не беда, что надобно приготовиться насколько возможно, дабы содействовать южным членам, если они подымутся, что очень может случиться, ибо они готовы воспользоваться каждым случаем; что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Вследствие сего разговора и предложено было мною некоторым членам, в то утро ко мне приехавшим, избрать Трубецкого в диктаторы. Все изъявили на то свое согласие, — и с того дня начались у нас решительные и каждодневные совещания".
Рылеев несколько сдвинул время — Трубецкой мог приехать к нему с известием о присяге не раньше трех часов дня. А предложить избрать его диктатором Рылеев мог только вечером, на первом совещании после присяги.
Но прежде всего важно нам, что решительное слово, с которого начались целенаправленные действия, произнесено было Трубецким. И в диктаторы привели его не только "густые эполеты" гвардейского полковника, но эта твердая позиция посреди всеобщей растерянности…
Между тем по городу пошли слухи о завещании императора Александра. Трубецкой и его товарищи прекрасно поняли, что возможное отречение Константина и неизбежная в таком случае переприсяга принципиально изменят ситуацию.
В это же время в действие вступил человек, которому предстояло сыграть сильную и странную роль в надвигающихся событиях. Подполковник Батеньков показывал: "Ноября 27-го поутру я разговаривал с лекарем Яроцким. Вдруг пришел зять Сперанского Багреев и, не вымолвив ни слова, залился слезами. Зная дня за два о болезни государя, я понял горестную новость и сказал, что тотчас к ним буду. Сперанского дома не было; мы разговаривали втроем с дочерью его и зятем о положении императрицы, о необыкновенности кончины государя вне столицы и о предстоящем трауре. Не дождавшись Сперанского, я поехал кататься, думал увидеться с Трубецким, которого главные здесь сношения полагал в гвардии, чтобы узнать ее расположение, но не решился. Вместо этого обратился к коллежскому советнику Погодину. Здесь узнал, что присяга принесена уже государю цесаревичу и что огласилось во дворце об отречении его, но государь Николай Павлович поспешил присягнуть сам. По стечению обстоятельств я в сие время читал две книги: 1. Господина Тьери о завоевании Англии норманнами. 2. Госпожи Сталь об Англии. Весь был напитан тремя идеями: а) неблагорасположением к иностранцам, б) уважением к народным защитникам, в) уважением к собственной народов жизни. Мне казалось постыдным пропустить сей день, не дав заметить, что у России есть уже желание свободы. Посему говорил слишком вольно, что Совет и Сенат спят и что если б они думали об отечестве, то могли б в ту самую минуту, как Николай Павлович присягнул цесаревичу, принять сие за отречение и, огласив Александра II, сделать потом, что признают за благо. Напитанный сими мыслями и досадою, что важный случай пропущен, я поехал к Прокофьеву, отправился к Штейнгелю побранить высшие сословия, а после к Рылееву, чтобы подстрекнуть и его; но сверх всякого чаяния заметил, что тут были люди, которые в самом деле готовы броситься к солдатам и провозгласить Елисавету или Александра II-го".
Этот "следственный монолог" — образец декабристской тактики на допросах: сказать много, не сказав главного.
А главным для Батенькова в тот день было все же свидание со Сперанским, о котором он сказал, не назвав имени своего патрона. Первый раз он, очевидно, действительно Сперанского не дождался. Это и неудивительно — Сперанский был на известном нам заседании Государственного совета, на котором он, судя по всему, не проронил ни слова, как, впрочем, и адмирал Мордвинов. Батеньков вернулся в дом Сперанского после трех часов, и обидные слова его о том, что Совет и Сенат спят и не думают об отечестве, неизвестно к кому в показании обращенные, на самом деле обращены были к Сперанскому.
Барон Штейнгель живо и подробно описал визит к нему Батенькова: "27 ноября ввечеру господин Батеньков приехал к господину Прокофьеву и, застав меня у него, после нескольких слов, в рассеянии произнесенных, сказал мне: "Пойдемте в вашу комнату, хотя трубку выкурить". Когда мы пришли ко мне (в мезонин), то сели вместе на мою кровать, и тогда с видом крайнего сердечного огорчения он начал мне говорить: "Я поссорился со своим стариком и наговорил ему бог знает что. Как можно, упустили такой день, каковых едва ли во сто лет бывает один, и ничего не могли сделать для отечества. Теперь все пропало невозвратно; все предприятия надобно выкинуть из головы; кончено: Россия на сто лет должна остаться в рабстве". Я спросил: "Что же говорит Михаил Михайлович?" — "Что говорит! — отвечал он тем же тоном негодования, — говорит: "Я один, что ж мне прикажешь делать; одному мне нечего было говорить". Всего разговора нашего я никак не припомню, но эти слова врезались в моей памяти".
(Тут чрезвычайно важно, что Сперанский не отверг саму идею изменения формы правления, а только сослался на свое бессилие. У Батенькова, стало быть, с самого начала была идея изменения политического устройства акцией "высших сословий" — Государственного совета и Сената, провозглашения царствующей императрицей Елизаветы или же императором — малолетнего Александра Николаевича. Но надежда на сановников была столь же иллюзорной, как на добрую душу Константина.