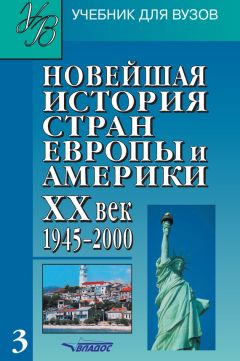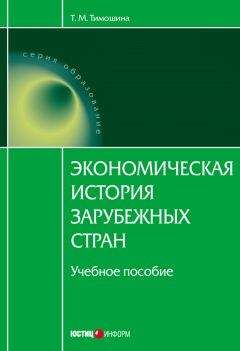Александр Бенуа - Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)
Через несколько минут "Пластун", на пылающем фоне заката, превратился в беззвучный, далекий, как-то вытянувшийся в высоту силуэт, а через еще несколько мгновений он точно нырнул за горизонт. В это время, взглянув на мать, я увидал, что она украдкой утирает слезы, тогда как до этого она крепилась, чтобы не "испортить всем настроения". Другие дамы, матери, жены или невесты те просто рыдали, продолжая махать платками и косынками. Поздно ночью, но в белую северную ночь, мы добрались до дому, в наше опустевшее родное гнездо...
Потянулись месяцы и годы плаванья нашего Мишеньки. Родители подписались на "Кронштадтский вестник", в котором вообще интересного для не моряков было мало, но по которому можно было следить за передвижением судов российского флота по земному шару. Когда сообщалось, что клипер "Пластун" в составе такой-то эскадры пришел туда-то, то в доме наступало успокоение. Когда же долго не приходило таких известий, то нарастала тревога. Особенно долгий перерыв получился во время перехода "Пластуна" от Сингапура через весь, славившийся своими бурями Индийский океан, до Капштадта. Я себе живо воображал как десятисаженные (такие нарисованы в одной из книг Жюля Верна), волны накидываются на судно, на котором плыл Мишенька и которое превращалось среди разъяренной стихии в "жалкую скорлупку". Но совершенно иные видения рисовали письма брата, приходившие из Шанхая, Гонг-Конга, Нагасаки, с Сахалина ("Пластуну" было предписано произвести проверочные обмеры какого-то залива), из Гонолулу, из Сан-Франциско, с Таити, из Мельбурна и из Сиднея. Описания Миши были правдивы, просты, точны, но не обладали особенной красочностью и не вызывали ярких образов. Этот дефект до известной степени восполнялся путевыми записками Гончарова, совер-шившаго кругосветное плаванье на фрегате "Паллада", которые мы с мамой читали по вечерам. Еще более возбуждали мою фантазию почтовые марки, отштемпелеванные на местах отправки, а также целые серии совершенно чистеньких, вложенных Мишей внутри письма. Эти последние специально предназначались не для моей коллекции, а для более серьезного собирателя, для городского садовника г-на Визе, но кое-что перепадало и мне.
После Капштадта началось Мишенькино определенное "приближение к дому". В сущности, на пути возвращения он был уже целый год после отплытия от крайнего пункта путешествия - Сан-Франциско, но пока он не обогнул мыса Доброй Надежды, это возвращение не представлялось вполне реальным. Тут же стало ясным, что он скоро снова будет среди нас. Еще успело прийти письмо из Амстердама, где Миша посетил тогдашнюю всемирную выставку, а затем он и совсем замолк. И вдруг телеграмма из Кронштадта: "Благополучно приехал". Боже, какое тут поднялось у нас волнение. Легкая на слезы Степанида (когда-то нанятая в кормилицы именно к Мишеньке и с тех пор служившая у нас в горничных), та даже стала от радости причитывать, как над покойником, причем ее очень тревожил вопрос, не женился ли ее любимец на японке, чем мы всё время ее дразнили. Папа тот сразу приступил к приведению в порядок "Чертежной", предназначавшейся под Мишин кабинет.
Это был июнь 1883 года. Как раз случилось так, что я поехал с нашими английскими свойственниками - сестрой Мата Эдвардса - Эллен и ее мужем Реджинальдом Ливесей, совершавшим экскурсию в Петергоф, и было решено, что, по осмотре дворцов и парков, мы заедем передохнуть на дачу дяди Сезара, а затем, захватив моих кузин, отправимся все вместе через Ораниенбаум, в Кронштадт. Однако, программа не удалась вполне: до Кронштадта и до "Пластуна" мы добрались; но когда шумливой компанией мы вступили на палубу клипера, то Миши уже там не оказалось, он не утерпел и отпросился на землю в Петербург. Это не помешало оставшемуся на корабле офицерству нас принять с честью и меня особенно польстило, что Мишин друг который особенно ласково меня угощал, был князь Путятин. Я тут же с ним выпил брудершафт, заедая шампанское особенно мне понравившимся закусочным блюдом - редькой в сметане. Осушив бокала два, я так охмелел, что, желая отличиться перед кузиной Инной, слетел с лестницы, ведущей к капитанскому мостику. Очень меня тронуло, что в Мишиной каюте на тех же местах, куда их повесил папочка, по-прежнему висели овалы с портретами Александра II и Марии Федоровны, но теперь царствовавший в 1881 году Государь, убитый нигилистами, лежал в Петропавловской крепости, а эта миловидная дама со смеющимися глазками и с высокой прической, стала нашей императрицей.
Достигли мы (всё в той же компании) Петербурга на последнем пароходе уже в сумерки. Входя в нашу квартиру, я громко восклицал: "Где Миша, где Миша?" Но папа и мама замахали на меня руками: Миша спит и его не надо будить! Мне только разрешили посмотреть на спящего путешественника. Пробравшись на цыпочках к кровати, я... обомлел от удивления. Вместо прежнего нежного юноши, я увидал "большущего", мощного, но всё-таки такого же красивого мужчину, почти черного от загара. И как странно пахло в этой комнате: пряными духами, чем-то далеким, "восточным", чужим. Запах этот шел от раскрытых и частью уже опорожненных чемоданов. Повсюду на столах, стульях, на комоде лежали пакеты, и я уже спрашивал, что из всех сокровищ предназначается именно мне - ведь в каждом письме Миша сулил мне какой-то сюрприз.
Увы, в этом отношении меня ожидало разочарование. Когда на следующее утро, после кофе, все пошли в Мишин кабинет и началась раскладка содержимого больших сундуков, - то я вскоре получил свой подарок. Миша, очевидно, представлял себе на расстоянии своего маленького брата - вовсе не тем "жёномом" с ухватками молодого щеголя, какого я из себя теперь, в тринадцать лет, корчил, а всё еще ребенком, для которого вполне подходящим подарком мог служить механический лаявший и скакавший пудель. Поняв свой промах, Миша смутился, мне же стало так его жалко, что я представился будто я в восторге от этой игрушки, но на следующий же день я ее уступил одному из своих маленьких племянников. Остальное же, что предстало в то утро, вынутое из Мишиных сундуков, было до того занимательно, что разглядывание этих диковинок вполне отвлекло и поглотило мое внимание.
Тут был и зубчатый клюв пилы-рыбы и ожерелье из ракушек и птичьих яиц с Таити, и волшебное японское зеркало, и индусский ларец, выложенный тончайшей мозаикой, упоительно пахнувший внутри, и роскошный японский алый платок, с вышитым на нем желтыми шелками павлином, и чашечки с завода Сатсумы и какие-то, издававшие дикие звуки, музыкальные инструменты, и черепаховая модель рикши, и масса альбомов с фотографиями, и яркие шали, и невиданные раньше большие раковины, отливавшие цветной радугой.
И от всего этого шел тот сладкий, пряный дух, который меня поразил накануне и который теперь распространялся на всю квартиру. А из большого деревянного ящика вытаскивались бесчисленные банки с консервами заморских фруктов и| прелестные полубутылочки со сладким Капским вином. Его я затем пивал частенько или даже с гордостью потчевал им своих товарищей-гимназистов.
Меня только огорчала Мишенькина несловоохотливость; он почти ничего не рассказывал и еле отвечал на мои вопросы, отделываясь двумя-тремя фразами. А мне так хотелось услыхать что-нибудь более подробное, и особенно про то, как он проводил время в Японии, где, говорят, все офицеры, на время своей побывки на суше обзаводились прелестными женами-японочками. Да и таитянки меня интересовали чрезвычайно. О них уже тогда шла по свету молва, которая была одной из причин, побудивших несколько позже Гогена покинуть старую Европу и поселиться в Океании. Но от Миши, кроме отрывистых фраз, ничего, касающегося подобных тем, я не мог добиться. Да я и сейчас уверен, что целомудренный наш брат вернулся после трехлетнего путешествия) совсем таким же чистым и девственным, каким он уехал. Для него a maiden in every port (Девушка в каждом порту.) не существовала.
Зато его сердце сохранило во всей своей свежести способность любить, и это сказалось через несколько же недель после его прибытия, когда всем стало ясно, что возник роман между ним и его кузиной Олей Кавос, тоже за эти три года, из "институтки-бакфиша", превратившейся в девушку, если и не отличавшуюся красотой, то всё же в своем роде привлекательную. "Cousinage dangereux voisinage" (Двоюродные братья-сестры - опасное соседство.), - говорит пословица и в данном случае она могла найти себе тем большее подтверждение, что Оля с отцом и теткой, служившей ей матерью, заместо умершей родной, жила в двух шагах от нас, а парадная дверь их квартиры выходила на ту же площадку, как и наша. Оля, впрочем, предпочитала приходить к нам, и тогда оба влюбленных засаживались в Мишином кабинете, где они то читали, то целыми часами шушукались и ворковали. К весне 1884 г. этот роман принял официальный характер. Миша и Оля были объявлены женихом и невестой, а те препятствия, которые могли помешать браку между столь близкими родственниками, удалось, благодаря связям дяди Кости в Св. Синоде, преодолеть.