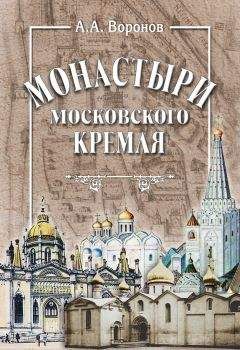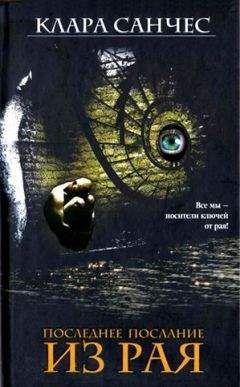Клара Маштакова - Легенды и были Кремля. Записки
«Нет, я не дарил монографию и даже не знал, что она находится в Кремлевской библиотеке», — задумчиво говорил Сергей Тимофеевич. Беседа затянулась: скульптор много рассказывал об Америке, где провел двенадцать с лишним лет, с теплотой вспоминал о своей родной деревеньке Караковичи, что на Смоленщине.
Наконец, мы сочли нужным попрощаться…
«Нет, нет, подождите, я вам еще кое-что покажу!» — воскликнул Сергей Тимофеевич и легко поднялся по ступенькам в свою мастерскую. А через несколько минут настежь распахнулась дверь, и скульптор, тяжело ступая, появился с огромной гипсовой доской высотой примерно 1,5 м и шириной около 1 м. Тяжело ступая, он снес ее вниз и гордо сказал: «Это моя работа «Павшим за мир и братство народов!» Такая доска, только огромного размера, была установлена на Кремлевской стене у основания Сенатской башни в 1918 г. Комиссия после открытого обсуждения приняла мой проект, дав такую мотивировку своего решения: «Преимущество произведения Коненкова, по мнению экспертов, выражается в том, что как цветное оно побеждает тот серый полумрак, который царит на этом месте. Помимо того, по своему внешнему виду доска будет вполне гармонировать со всей площадью, где находится многоцветный собор Василия Блаженного, золото куполов и крашеная черепица башен…»»
Сергей Тимофеевич, показывая на гипсовую доску, пояснял: «Крылатая фигура женщины олицетворяет победу. В одной ее руке темно-красное знамя; в другой — поломанные сабли и ружья, воткнутые в землю. Они перевиты траурной лентой. А за плечами надмогильного стража восходит солнце…»
Мечты Сергея Тимофеевича, что над Россией взойдет солнце и ружья будут воткнуты в землю, не сбылись. Он на долгие годы покинул Советскую Россию. Доска была снята с Кремлевской стены в 1948 г.
Прожив несколько десятилетий в США, Сергей Тимофеевич рвался на Родину. Вернулся он по приглашению правительства в 1945 г.
Мы благоговейно слушали великого скульптора, а он рассказывал, как сделал проект монумента «Освобожденный труд». Это была устремленная ввысь, как бы летящая фигура женщины. Руки ее были распростерты как крылья. Символизируя освобождение, с плеч спадали декоративные драпировки.
Тем временем, пока мы разговаривали, в гостиной появился рыжий огромный выхоленный кот Василий. Сначала он ласково потерся о ноги хозяина и вдруг спокойно взобрался ко мне на колени. Сергей Тимофеевич рассмеялся: «Верите, вы даже Василию понравились, а он очень избранно относится к моим гостям». И продолжая раскатисто смеяться, рассказывал: «К нам часто приходит в гости Наталья Кончаловская. Они что-то невзлюбили друг друга. Наталья всегда гнала кота прочь, боясь за свои туалеты. И однажды Василий ей отомстил: он всегда гуляет на Тверском бульваре, а тут его прогулка закончилась на украшенной цветами соломенной шляпке Натальи! Представляете? И смех и грех!»
Мы снова стали прощаться. Взяв мою руку, хозяин крепко сжал ее и неожиданно сказал тихо: «Вы хороший человек, очень… Не уходите!» Я пообещала вскоре приехать еще, на что Сергей Тимофеевич задумчиво возразил: «Нет, вы больше не приедете, я вас никогда не увижу». Тогда я как-то не придала значения этим словам. Меня куда больше взволновали другие. «Как раз в канун своего девяностолетия, — сказал Сергей Тимофеевич, — я отреставрировал доску. И она после экспонировалась на юбилейных выставках в Москве и Ленинграде. Теперь она включена в экспозицию Русского музея. Вы там ближе к правительству, поговорите, может быть, доску вернут на Сенатскую башню».
Каким наивным человеком был великий скульптор! Нам не разрешалось не только обращаться к членам правительства, но даже 182 близко подходить к ним, если они сами не обращались к нам, экскурсоводам, во время правительственных мероприятий…
Прошло всего полгода после памятной встречи. Вскоре вышла наша новая книга, мы подписали ее скульптору, собираясь отвезти ее ему, а на другой день по радио услышали сообщение о смерти выдающегося скульптора России.
И я вспоминала его слова, сказанные на прощание: «Я вас никогда не увижу». И еще другие: «Вы молодые, у вас все впереди, да и Россия — страна молодая, и у нее великое будущее…»
Дорогой читатель! Если вам придется побывать в Смоленске, на родине скульптора, загляните в музей его имени. Там среди дивных сказочных персонажей, вырезанных из дерева и мрамора, вы увидите знаменитую столовую, которую он завещал родному городу. Сегодня она принадлежит России.
ЛЮБЛЮ И ПОМНЮ. ИСТОРИЯ МОЕГО ДОМА
Первый дом моего детства был прекрасен и таинствен! В маленькой усадьбе у Соломенной сторожки я прожила лучшие детские годы. Мы со старшей сестрой занимали очень светлую и уютную комнату, но большую часть времени проводили в саду или на заднем дворе, где среди старых высоких тополей были устроены качели и гамак. В дождливую погоду мы играли на просторной застекленной террасе, сплошь увитой снаружи диким московским виноградом. Но едва кончался дождь, мы, шлепая по лужицам, носились вокруг благоухающей клумбы, вдыхая влажный воздух, напоенный запахом цветов и трав.
Но главной достопримечательностью дома были чердак и открытый балкон на втором этаже, куда нам строжайше запрещалось подниматься. Лишь изредка мы тихонько крались по скрипучей лестнице, чтобы сверху увидеть Москву. Так все — и взрослые и дети — называли центр города, потому что жили мы на глухой тогда окраине — на Михалковском шоссе. Но Москву за высокими тополями было почти не видно…
Осень 1934 г. выдалась сухая и теплая, в саду дозревали последние плоды и овощи, по дому плыл тонкий аромат антоновских яблок. Мы целые дни проводили во дворе, наслаждаясь последним теплом. Чудо как было хорошо той солнечной осенью! Но наш мир разрушился в один миг, когда родители объявили, что мы вскоре переезжаем в новую квартиру.
…Сегодня, проезжая по Волоколамскому шоссе, вряд ли кто задержит свой взгляд на желтой пятиэтажке под номером 7 (60 лет назад — дом 15а), опоясанной длинными балконами. Теперь она теряется среди добротных кирпичных домов, окна которых смотрят на Авиационный институт. Но когда глубокой осенью 1934 г. наша семья въезжала в только что отстроенный дом «Дальстроя» (назывался он так потому, что был специально построен для ответственных работников, руководивших строительством на Дальнем Востоке), он гордо выделялся среди деревянных домишек дореволюционной постройки.
Переезд в отдельную благоустроенную квартиру радовал только родителей. Мы с сестрой страшно тосковали по старому дому, часто плакали. Но время шло, наступила ранняя снежная зима. Двор наш неузнаваемо преобразился: дворник дядя Миша сделал две горки, залил каток и даже смастерил снежную бабу. Соблазн был велик, и схватив санки, мы бросились обновлять горки.
Под самый Новый 1935 г. свершилось радостное событие — «разрешено» было устраивать елку! Да, дорогой читатель! Доселе это было «запрещено»… Очень хорошо помню, как однажды утром, проснувшись, мы почувствовали особое благоухание — в столовой, в ведре с водой красовалась огромная пушистая елка! Нашему восторгу не было предела. Все вечера, оставшиеся до Нового года, мы просиживали за обеденным столом, заваленным цветной бумагой, фольгой и картоном, и резали, клеили, рисовали… Мама разрешила вечером 31 декабря пригласить наших новых друзей. Боже, какой это был праздник! Да, к этому времени мы с сестрой обзавелись друзьями и клялись друг другу в своей дружбе «навек». «Век» этот длился не более двух лет, а потом началось такое, что никак не укладывалось в наше детское сознание…
Я расскажу о печальных судьбах трех дорогих моих незабвенных друзей. Одну маленькую подружку звали Тамара Майсурадзе. Она была прелестна, это понимали даже мы, дети. Особенно прекрасны были ее удивительные глаза оливкового цвета, затемненные густыми длинными ресницами. Мать и отца Тамары арестовали в одну ночь летом 1937 г., а ее отправили в детский дом особого назначения. В то время я с родителями жила на Оке под Тарусой и ничего не знала.
Глубокой осенью пришло письмо, в котором она сообщала, что живет далеко от Москвы, в «хорошем» детском доме, что в глаз ей попала песчинка и… глаз вытек! Помню, я долго-долго плакала… Если ты жива, Тамарочка, отзовись! Ты жила в нашем доме, в отдельной квартире № 47. Вспомни, родная!
А в квартире № 48, напротив, жила семья бывших политкаторжан латышей Клеппер. У них была тоже единственная дочка Инночка, и училась она на два класса младше. У нее были пушистые пепельные волосы и тоненький певучий голосок. У ее мамы была большая плетеная корзинка, а в ней — много цветных клубков шерстяных ниток. Иногда мы играли ими, бросая друг в друга, но когда входила тетя Ильза, аккуратно наматывали нитки обратно.
Когда арестовали под Новый год папу Инночки, в их квартире опечатали две комнаты. И тогда тетя Ильза устроила столовую в большой прихожей, поставив туда круглый стол, над которым висел оранжевый шелковый абажур и всегда горел свет.