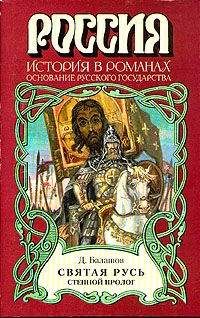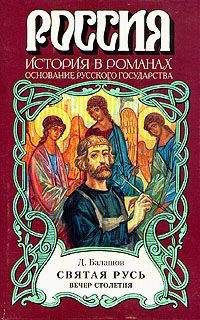Дмитрий Балашов - Святая Русь
Он видел, знал, чуял, что на княгиню Ульянию положиться нельзя, что ей все застит судьба любимого сына Ягайлы, коему Ольгерд собирается оставить престол, чуял, что всесильный Войдыло затеял опасную игру с немцами. Наезжая в Вильну, убеждался с горем и страхом каждый раз, что католические прелаты, ксендзы и посланцы римского престола кишат повсюду, потихоньку захватывая власть, и с ними считаются, и их не гонят, хотя в Вильне православных христиан больше, чем католиков, и все равно последние ведут себя словно спрыснутые живою водой, спорят за души прихожан, открывают, непонятно на чьи средства, все новые храмы. А литовские князья окружают себя западной роскошью, выучивают немецкий язык, начинают чураться грубостей своего собственного народа. И рыцари, разбитые литовцами во многих кровавых войнах на рубежах Жемайтии, теперь спесиво толпятся в прихожих литовских князей, чего-то требуют, о чем-то победительно спорят… Здесь, в Вильне, опрокидывался, становился зыбким весь премудрый византийский расчет, и чуялось: не те десятки тысяч прихожан-смердов, а эти сотни вельмож станут вскоре решать духовные судьбы страны, когда придет неизбежный час смены властителя.
А тут еще неудача с Новгородом! Последняя великая победа Алексия и проистекшая оттого остуда Ольгердова, до прямого нежелания видеть его, Киприана, пред лицом своим.
Болгарин все еще пробился в Вильну, попал во дворец, дабы увидать самое страшное для себя: Ольгерд умирал! Умирал, обманув ожидания константинопольского патриаршего престола, умирал, так и не крестив страны, «на ниче обратив» все Филофеевы и его, Киприановы, замыслы.
Встречу ему по каменной крутой лестнице спускался торжественный, в бело-красном облачении своем, римский прелат, папский наместник в Вильне.
Пышный подбородок клирика тяжело и плотно лежал на низком белом воротничке. Внимательные умные глаза с легким прищуром обозрели Киприана, руки округло раздвинулись почти с желанием обнять и облобызать соперника.
– Приветствую тебя, священнейший брат мой! – произнес он на хорошем русском языке. – Должен поздравить Ваше преосвященство, ибо великий князь пожелал на одре смерти принять святое крещение не от нас, но – увы! – от пресвитера-схизматика!
И столь доволен и полон благодушия был голос латинянина, что Киприан едва не сорвался и не нагрубил. Лицо залило бледнотою, а после окатило жаром. Прелат явно издевался над ним! Ибо чего стоило предсмертное обращение упрямого литвина к русскому Богу в этой игре, где на кону весились судьбы всей великой Литвы и десятка сопредельных государств!
Католик мог торжествовать: да, они победили! Победили теперь и победят впредь, ибо вовсе неясно, как повернет ныне судьба византийской церкви в этой земле!
Ульяния встретила его торопливо-захлопотанная, с лихорадочными красными пятнами на щеках.
– Иду к нему! Умирает! Содеяла, что могла!
Не ей было говорить и не ей объяснять, что все потеряно и тут, у смертного ложа Ольгерда, рушит в ничто надежда главы всего восточного православия!
Киприан так и не представился умирающему, хотя ко гробу прорвался опять. Отданный православию труп следовало погрести именно ему. И еще одно запомнилось на этих суматошно-многолюдных похоронах: мерцающий, настороженно-торжествующий взгляд Войдылы. Боярин, поднявшийся к власти из рабского состояния, прошел осторожно, крадущимся медведем, и поглядел – только поглядел! – в глаза Киприану, но и взглядом мгновенным словно примеривал: за сколько тебя, поп, теперь продать мочно?
Слишком ясное творилось тут, слишком пугающе-ясен был замысел и немцев, и ляхов, и римско-католического престола! Именно поэтому Киприан, едва отбыв похороны и кое-как наставив вдовствующую великую княгиню, устремил в Полоцк, к Андрею. И пока неслись по белой пороше, виляя из стороны в сторону, узорные розвальни, пока взмывал и падал на взгорьях митрополичий, окованный узорным железом и обитый изнутри волчьим мехом, возок, мчались вершники, подрагивая копьями, Киприан, утопив лицо и бороду в пышный мех бобрового опашня, думал, понимая все больше и безнадежнее, что проиграл тихую войну грамот, подкупов и обманов, что католики скоро вышвырнут его отсюда, как старую ветошь, и только воинская сила, отчаянный риск последней ставки, когда уже все на кону, может что-то поправить или изменить в делах его нового отечества.
О Москве, о князе Дмитрии, о Руси Владимирской он еще не думал совсем. Было одно: спасти для себя и для дела церкви, спасти, отстоять литовское православие!
Глава 13
Есть люди, которым упорно не везет всю жизнь, невзирая на их личные человеческие достоинства. Таким был Всеволод, всю жизнь потративший на мелкую грызню с дядей Василием Кашинским, так и не сумев проявить себя в высоком звании тверского великого князя.
Таким был и Андрей Ольгердович. Жизнь, и надежды, и несомненный ратный талан – все прошло и угасло в тени его великого отца, самовластно распоряжавшегося судьбами сыновей и племянников. Полоцкий князь начинал седеть, жизнь ощутимо все больше клонилась к закату, и почти уже забывалось, что он старший сын великого Ольгерда как-никак! Забывалось и потому еще, что закона о прямом престолонаследии от отца к старшему сыну не было выработано в Литве, и слишком многое в Вильне поворачивалось – Андрей это знал – против него.
Крещение не было пустым звуком для полоцкого князя. Андрей был верующий, но даже и это связывало! С дядей, Кейстутом, как ни пытался, общего языка Андрей найти не мог.
Смерть отца застала Андрея врасплох. Он не поехал в Вильну, и, возможно, это было первой его роковой ошибкой. Не поехал от смутной боязни, что может не воротиться оттуда живым. Но, не поехав, оттолкнул от себя тех, кто мог бы, сложись по-иному судьба, стать на его сторону.
Киприану князь обрадовался, устроил митрополиту почетную встречу.
Было торжественное богослужение, был пир. Лишь поздно вечером они остались одни. Киприан жадно, по-новому разглядывал полоцкого князя. Высокий, грубее и мясистее отца, он и казался и был больше славянином, чем литвином. Густая борода, грива волос на плечах (князь редко заплетал свои седые кудри), прямая складка, прорезавшая лоб, и эта усталость слегка опущенных мощных плеч, тяжелых рук, бессильно уложенных на столешню.
– Буду собирать войска! – сказал князь, не обинуясь, сурово и прямо.
Они сидели, думая каждый о своем и о совокупном. Внимательноглазый Киприан изучал усталого великана, гадая, поможет ли князю судьба хотя бы на этот раз.
– Ежели дойдет до того, пойду на Вильну, пока Ягайло не осильнел и пока они с Войдылом не продали Литвы немцам! Не коришь за котору братню? – вопросил с горькою усмешкой Андрей.
Киприан медленно, отрицая, покачал головой. Ответил не вдруг:
– Я благословляю тебя!
И говорить стало более не о чем. Затем и скакал, затем и спешил в Полоцк из Вильны, дабы произнести эти слова.
– Ну а разобьют… – невесело пошутил полоцкий князь, – лишусь и своего престола!
– Господь да поможет тебе! – повторил Киприан.
Все же он поспешил покинуть Полоцк до начала военных действий. То ли сказалась вечная заботная опасливость Киприанова, то ли коснулась его крылом, овеяла княжеская несудьба, незримо обрекшая Андрея на поражение еще до начала военных действий. (Обгоняя события, скажем, что разбил Андрея именно Кейстут, спасший на горе себе племянника Ягайлу и тем подготовивший свою собственную гибель. Жители Вильны так и не приняли Андрея на отцовский престол!)
Глава 14
Вот тут, весною и летом 1377 года, Киприан впервые всерьез задумался о Москве. Нет, он все еще не считал своего дела проигранным, хотя грозное предвестье беды – слух о жалобах князя Дмитрия в патриархию – уже достиг его ушей. Он еще судил и правил, он еще объезжал епархии, но чуял себя все больше и больше словно бы морское существо, неумолимою сетью рыбака вытащенное из воды и теперь обсыхающее на суше. Старого Филофея (на коего в последнее время Киприан часто и досадовал и был гневен) больше не было.
Не стало постоянной константинопольской защиты. Здесь, в Литве, после смерти Ольгердовой все словно бы сдвинулось и потекло в неведомую для него сторону.
Меж тем на Руси творилась своя неподобь. Осенью того же 1377 года произошло несчастное сражение на Пьяне, а зимою, когда митрополит Алексий начал изнемогать, считая дни и часы до своей кончины, восстала вновь боярская и церковная пря.
После отречения от высшей власти Сергия Радонежского вопрос о наследовании митрополичьего престола вновь возвернулся на прежние круги своя.
Дмитрий, получивший-таки благословение радонежского игумена, коего в лоб вопросить почему-то не смог (Сергий молчаливо не позволил ему говорить о делах церковных), с некоторым запозданием узнал о решении радонежского игумена уже от самого владыки Алексия. Приходило все начинать сызнова, и князь начал сызнова, вызвав к себе вскоре после Рождества Митяя для укромной беседы в малой горнице верхних великокняжеских хором. Вызвал, еще колеблясь, поминая давешнюю безлепую вспышку печатника своего. Но и Митяй, понимавший, почто зван и за какою надобью идет к великому князю, постарался на этот раз не ударить лицом в грязь.