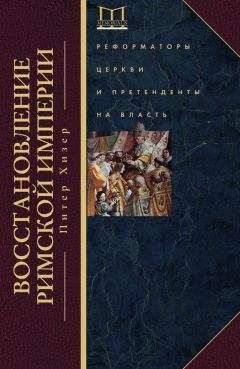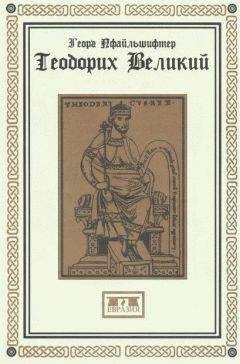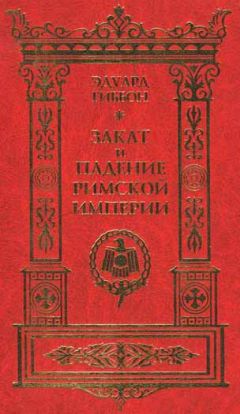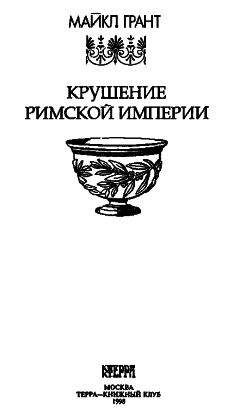Гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств - Корсунский Александр Рафаилович
Относительно деревенской общины сведений нет. В горных районах возможно сохранялись общины доримского типа. У готов родовые связи ко времени поселения в Италии в основном разложились. Об остатках кровнородственных отношений свидетельствуют упоминания об очистительной присяге и судебных поединках в изданном в 512 году эдикте Теодориха, который содержал общий для римлян и остготов свод законов. У Кассиодора говорится об отмене обычая ответственности родственников за уплату долгов кого-либо из родичей соседям. Но о самой общине и ее структуре какие-либо сведения отсутствуют, хотя могло иметь место общинное владение пустошами и лесами.
Государство принимало меры для развития сельского хозяйства — необработанная земля передавалась тем, кто брался ее возделывать, стимулировались мелиоративные работы, делались попытки улучшить породу скота, временно отменялись пошлины с товарооборота в отношении зерна, масла и вина. Очевидно, имел место некоторый подъем земледелия. Сицилия, Кампания, Северная Италия доставляли хлеб для снабжения Рима и других крупных городов. Иногда приходилось ввозить хлеб из-за границы, но происходил также и экспорт зерна из Италии, в частности в Прованс. По мнению К. Ханнестада[54], важным фактором подъема италийского сельского хозяйства стало изменение политической обстановки в Средиземноморье в 50—70-х годах VI века. После захвата западной части Северной Африки, а также Сардинии и Сицилии вандалами италийские земледельцы освободились от конкуренции с заморскими производителями зерна.
Общие тенденции экономического развития, проявившиеся в эпоху поздней империи, продолжали свое действие и в остготский период — росли натурально-хозяйственные отношения, ремесло перемещалось в латифундии, переселялись в деревню куриалы. Но жизнь городов и торговля в это время все же несколько стабилизировались. Как отметил К. Ханнестад, число городов, обнаруживавших признаки роста, превосходило в IV–VI веках количество городов, пришедших в упадок. Подъем переживали главным образом те города, которые располагались на морском или речном побережье, и центры сухопутных путей сообщения — Болонья, Канузий, Мутина, Триест, вероятно также — Беневент, Неаполь, Сполето, Падуя, Верона, Тортона. В Неаполе имелись колонии иноземных купцов.
Государство осуществляло активную экономическую политику в соответствии с теми же принципами, которыми руководствовались в свое время имперские власти. Обеспечивая продовольствием армию и осуществляя раздачи хлеба плебсу крупных городов, оно устанавливало максимальные цены на зерно, вино и другие продукты. Велась обширная строительная деятельность; в районе понтийских болот и близ Равенны производились мелиоративные работы. Правительство поощряло торговлю, оберегая купцов от незаконных поборов, взимавшихся с них местными чиновниками.
Таким образом, Остготское государство обеспечивало Италии мирное существование до середины 30-х годов VI века, и этот факт уже сам по себе может объяснить некоторый экономический подъем страны в это время. Но каких-либо коренных преобразований в экономике Италии не произошло. Во всяком случае, они не проявились сколько-нибудь заметно.
Сдвиг в социальной структуре Италии при остготах определялся внедрением в местное общество варварского населения с присущим ему особым общественным устройством. Само же италийское население не претерпело каких-либо коренных изменений в своей структуре. Основной градацией общества по-прежнему оставалось деление на свободных и рабов. Сохранялось также противопоставление honestiores и humiliores, которое не ограничивалось имущественным различием, но содержало в себе зачатки сословной дифференциации среди свободных; это деление, очевидно, распространялось лишь на римское население. В италийском обществе при остготах сохранились также ранги среди свободных — illustres и прочие разряды, сословие куриалов и плебс. Исследователи отмечают устойчивость рабства в Италии в VI веке. Так, по мнению немецкого историка права Г. Нельсена[55], число рабов, находившихся в руках готов, превосходило число свободных. 3. В. Удальцова[56] полагает, что можно говорить не только о наличии, но и об известном упрочении рабовладения в Италии при остготах.
О сколько-нибудь существенных изменениях в юридическом статусе рабов источники не сообщают. Высказывалось мнение, что в остготский период упрочилось право сервов на их пекулии. Подобная тенденция имела место в варварских королевствах и не исключено, что она проявилась и в Италии. Но убедительные доказательства того, что это происходило здесь уже в остготский период, в источниках отсутствуют.
Останавливаясь на положении рабов и колонов в остготской Италии, исследователи уделяют большое внимание § 142 эдикта Теодориха, который отменяет прежнее положение римского права, запрещавшее продавать колонов-ори-гинариев без земли. Имеются разногласия в интерпретации значения самого понятия originarii в данном тексте. Высказывалось мнение, что речь идет здесь обо всех колонах. Большинство же исследователей полагает, что эдикт имеет в виду рабов и низший слой колонов — тех, кто произошел из рабов, так называемых несвободных колонов. Смысл данного постановления заключался, по-видимому, в том, чтобы дать готским землевладельцам возможность свободнее использовать таких колонов для своих нужд — обработки полученных ими земель и службы готам в тех местах, где те несли гарнизонную службу. Следует иметь в виду, что прекращение действия позднеримской правовой нормы, запрещавшей отделение зависимого или несвободного земледельца от обрабатываемого им участка, не является особенностью остготской Италии. Так было и в других варварских королевствах, хотя и без специального постановления об этом.
Колоны, как и прежде, вносили оброк в натуральной и денежной форме, несли транспортные повинности. Для королевства остготов характерно сближение в положении рабов, посаженных на землю, и колонов, но слияния этих групп все же не произошло. Мелкие земледельцы различного социального статуса (за исключением рабов) нередко обозначаются в остготских памятниках обобщающим термином rustici.
Относительно социальной структуры остготов в литературе высказывались различные суждения. Одни исследователи отмечали дифференциацию среди готов, которые распадались на рядовых готов, обедневших еще до поселения в Италии, то есть крестьян, и слой знати. Другие утверждали, что хотя прежде, до завоевания полуострова, готам приходилось заниматься производительным трудом, в Италии они превратились в военное сословие. Основной целью переселения было якобы стремление готов избавиться от необходимости ходить за плугом, их влекло желание вести образ жизни вотчинников. Высказывалась также промежуточная точка зрения: хотя не все готы, разумеется, были крупными землевладельцами, но не были они в своем большинстве и крестьянами.
Источники позволяют считать, что основную массу войска Теодориха, когда он совершал поход в Италию, составляли рядовые свободные. Они принципиально отличались от рабов своим свободным статусом, но были привычны к производительному труду. Их отцы в свое время выращивали хлеб в Паннонии и значительную его часть отдавали гуннам; на их труд рассчитывал Теодорих, когда, намереваясь поселиться во Фракии, требовал от византийского императора предоставления готам продовольствия до следующей жатвы. Этих же рядовых готов имел в виду Страбон, упрекавший Теодориха в том, что свободные готы, участвующие в его походах и ранее имевшие по две-три лошади, теперь, «подобно рабам», вынуждены следовать за ним пешими, хотя они такие же свободные, как и сам Теодорих. О дифференциации среди остготов свидетельствуют и археологические данные. На полуострове обнаружены богатые погребения готов — захоронения знатных лиц. Но основную массу готов хоронили значительно проще. При этом очевидно, что основная их масса еще не превратилась в зависимых людей.
По-видимому, большая часть готов была занята непосредственно в производстве. Возможно, что крестьянами были готы, которые, как и римские арендаторы, должны были поставлять камни со своих участков для строительных нужд властям. Свободные готы, которым Велизарий, захватив Витигиса в плен, разрешил вернуться к возделыванию своих полей, очевидно, тоже были крестьянами. В специальной литературе отмечалось, что сохранившиеся остатки готского языка в Италии содержат термины явно крестьянского происхождения. Несомненно, не знатью, а простыми крестьянами были и те готы, которых чины готской администрации незаконно обращали в рабство; эти люди доказывали свое свободное происхождение тем, что участвовали в военных походах.