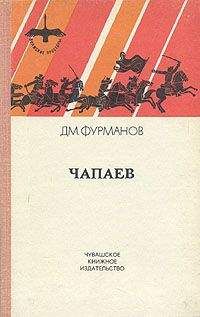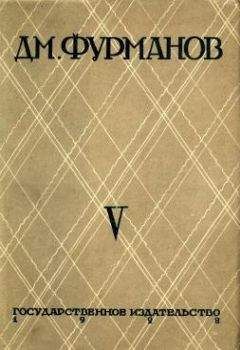Дмитрий Фурманов - Мятеж
Или вот, несколькими строками раньше, как мы аттестовали свою армию:
"За Советскую власть семиреченские части борются лишь постольку, поскольку у них имеется несогласие с казачеством и мусульманством; но надеяться иметь в лице этих красноармейцев надежную опору Советской власти, в особенности при ухудшении национальных взаимоотношений, ни в коем случае невозможно. Красная Армия Семиречья представляет собой не защитницу Советской власти, а угрозу мусульманству и отчасти казачеству и готова каждую минуту, помимо всяких приказов своего командования, кинуться стихийно и отомстить мусульманству за памятный 916 год..."
И своя и не своя. В таком драматическом соседстве нам оставаться далее было бы с каждым днем все опасней, опасней... Национальная рознь стояла неотвратимой угрозой. Джиназаковская работа только углубляла ее, приближала момент развязки.
И грозней и тревожней из Пишпека телеграммы Альтшуллера. Для него, видимо, совершенно очевидно, куда идет и куда ведет джиназаковщина:
- Идет настойчивая национальная травля...
- Нас джиназаковцы считают врагами...
- Отношения обостряются...
- Обличительные документы поступают непрестанно...
- Получены новые доказательства.
День за днем все в этом роде...
Важнейшие телеграммы Альтшуллера доподлинно, не изменяя ни в едином слове, передаем Ташкенту. Иной раз добавляем свои соображения, - они более спокойны, они только предположения. А сами доподлинные пишпекские телеграммы горячи, тревожны, насыщены непосредственной, близкой, неминуемой опасностью. Так бывает всегда: тому, кто стоит близко у развертывающихся событий, они кажутся и крупнее, и значительней, и опасней, чем, тому, кто их не видит, не чувствует, знает о них лишь по сводкам. Нам в Верном они казались мельче, Ташкенту еще мельче, а когда узнавала о них Москва - о, каким, вероятно, пустяком представлялись они, каким чуточным эпизодиком на фоне грандиозных общих событий... Гремели громы польского фронта, кипела борьба на врангелевском... Что значили какие-то ожидания в далеком Семиречье, за горами, на окраине?
И Ташкент прислал нам совет:
- В горячке все вам кажется крупнее!
Он был прав и не прав. Он многое тогда недоучел. Он путем не отобрал пишпекских телеграмм от верненских и судил одинаково по тем и другим. Это вздернуло нас на дыбы, но времени для споров не было, укор оставили пока без ответа.
В Аулие-Ата жил некий Карабай Адельбеков. Родовая давняя вражда поставила его на ножи с джиназаковским родом. Когда узнал Карабай, что особая комиссия в Пишпеке расследует деятельность Джиназакова, явился к Альтшуллеру и сначала скромно, а потом все резче и резче крыл джиназаковский род, и особенно самого Тиракула:
- Отец Тиракула - вор. Он нажил свои богатства конокрадством. Он грабил всех окрестных киргизов, и если вы отымете у него косяки коней и стада баранов, киргизы вам скажут спасибо... Тиракул такой же, как и отец... Комиссия должна арестовать Тиракула... А я дам документы, которые покажут, какой человек Тиракул, какие он брал взятки, какой жестокий к киргизам человек Тиракул Джиназаков.
Альтшуллер прислал Карабая к нам в Верный. Мы долго говорили. Ни словом, конечно, не обмолвились про политическую часть вопроса, про то, что готовит-де Тиракул Джиназаков киргизское восстание... Только хотели отобрать у Карабая обещанные документы. Но на руках у него ничего не оказалось. Услали его обратно в Аулие-Ата. Он потом часть материалов передал в комиссию.
На примере с Карабаем мы лишний раз увидели и убедились, как тут на почве исконной родовой мести могут люди пойти на крайние меры, на клевету, на измышления.
- Надо быть сугубо осторожным!
Такой вывод сделали мы из беседы с Карабаем.
Совсем неожиданно приехал в Верный Джиназаков. Пока он там гонял по Пишпекскому и Токмакскому районам, его упустили из виду и последние дни не знали, в каком направлении он ускакал.
Мне сообщили:
- Только что приехал Джиназаков, хочет видеться и говорить.
Отлично. Жду. Он вошел.
В легком черном суконном пальто. Широкополая черная шляпа. Напоминал по одеже не то журналиста, не то адвоката. Черноволос, стрижен коротко. В щелках - черные ниточки глаз. На губах, бороде - черное поле, весь накругло черный, как жук. Снял шляпу, протягивает руку через стол:
- Здравствуйте, товарищ...
- Здравствуйте. Только приехали?
- Да, только приехал... И к вам - поговорить насчет нашего дела... Наше дело очень плохо, товарищ... Очень плохо наше дело...
- Чем же плохо?
- Нам не дают работать. Кругом мешают... Мы хотим делать, а нам не дают, мы хотим другое делать, нам другое делать не дают... Советские органы не слушают, и ваша комиссия не слушает... Нам ничего не дают делать.
И он начал долго, подробно рассказывать, как заботится о помощи киргизам, как работает "двадцать четыре часа в сутки", а ничего не получается, как крестьяне заняли все земли у киргизов и не хотят возвратить их обратно...
- Вы нас все считаете шовинистами, нам везде говорят, что мы шовинисты... а этого только не понимают...
- Да кто же вам это говорит? - спрашиваю его.
- Все говорят...
- Ну, а все-таки?
- Да все говорят...
Я от этих общих разговоров все пытаюсь повернуть речь на работу, которую он ведет, хочу выяснить план, который у него имеется, определить перспективы, возможности работы и вижу - нет у него ничего, работает вслепую, от случая к случаю...
- Вам, - говорю, - надобно было бы дело свое начинать с областного центра, сначала договориться со всеми областными комиссариатами, выработать общий верный план, и тогда они вам во всем бы дали помощь, а то поехали по кишлакам, а здесь ничего о вас и не знают. Это была организационная ошибка...
- А зачем комиссия? - спросил вдруг.
- Какая комиссия?
- Ваша... Та, которую вы назначили в Пишпеке. Зачем она?
Я ему постарался объяснить, что до Ташкента дошли сведения о том, будто отдельные члены его комиссии злоупотребляют своими полномочиями. Ташкент забеспокоился и просил нас обследовать дело единственно для того, чтобы опровергнуть эти злостные слухи, показать, что джиназаковская-де комиссия работает хорошо и правильно...
Он смотрел на меня хитро и недоверчиво во все время разговора. Но после этого разъяснения успокоился и даже выразил явное удовольствие по поводу того, что Ташкент его сберегает.
- А вы где остановились? - спросил я неожиданно.
- Я... я... на Черкенской улице.
Он смутился, и видно было по лицу, что врет, к ответу не подготовился.
- У Павлова... - торопился он поправиться, называя домохозяина. - Я скоро переезжаю на другую квартиру, - зачем-то еще сообщил вдогонку.
Поговорили несколько минут, расстались. Особый отдел установил живо, что ни Черкесской улицы, ни Павлова, значит, там домохозяина нет.
- Зачем он обманул меня?
В это время прибежал посланец Джиназакова и сообщил, что тот уже переехал на другую квартиру.
- Что за быстрота? - изумился я.
Потом сообщили новую весть:
- Джиназаков тяжело заболел, слег и, вероятно, несколько дней не встанет с постели, так что тревожить его нельзя.
Все это было состряпано по-детски смешно. Совершенно очевидно, что все тут сплошная выдумка, и Джиназакову надо было что-то делать - или здесь, или выскакивая за город.
Особый отдел установил слежку. Так прошло несколько дней. Наблюдали, кто к нему ходит, уходит ли он сам куда.
Болезни, разумеется, не было никакой, - в тот же день видели его на ногах. Но слежка поставлена была, видимо, неумело, - Джиназаков об этом дознался и вскоре уехал снова в Пишпек. Задерживать его не было пока достаточных оснований. Только в Пишпек дали знать о выезде.
Телеграммы Альтшуллера полны нарастающим беспокойством, и, наконец, одна получена ночью: "Дела нашей комиссии почти окончены. Скоро можно было бы выехать - такая масса накопилась обличительного, совершенно достоверного материала. Но выехать нельзя. Опасно. Джиназаковцы за нами зорко следят. На всех углах стоят их агенты. Мы почти бессильны. Часть ревкома, трибунала, а пожалуй, и ЧК, - с ними: там много работает джиназаковцев. Нам передали, что девять человек из нас намечены к уничтожению... Что делать? Отвечайте срочно..."
Да, что теперь делать? Начдив и начособотдела срочно примчались на совещание. Все ребята наши повскакали, - они на ногах, готовы к работе, а работы будет на целую ночь, до утра. Все шифровали спешно обширную телеграмму Ташкенту с изложением обстоятельств дела. Просили ответ на вопрос.
- Как быть теперь, когда малейший неосторожный наш шаг в этой раскаленной атмосфере чреват тягчайшими последствиями? Здесь каждая мера против Джиназакова может быть оценена как начало национальной борьбы, как проявление насилия над киргизами... Как глянет на это население, как глянут на это в Турцике, как отнесутся местные партийцы-киргизы?
Словом, шаги чрезвычайно ответственные.