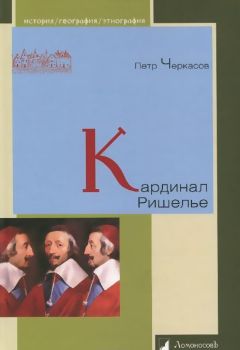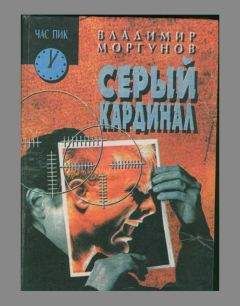Владимир Успенский - Тайный советник вождя
У нас в Серпухове Климент Ефремович сперва чувствовал себя напряженно, поглядывал выжидающе, плотно сжимал тонкие губы маленького рта, что придавало его лицу обиженное выражение. Но, приветливо встреченный Егоровым, быстро оттаял, обрел уверенность. Он даже меня узнал и поздоровался. А в Царицыне-то вроде и не замечал.
Егорову и Ворошилову было о чем потолковать и что вспомнить. Оставив их ужинать, Иосиф Виссарионович вышел со мной в соседнюю комнату, спросил шутливо:
— Николай Алексеевич, где укрыть нам этого беглеца? Чтоб Наркомвоен не дознался и чтобы с пользой для дела?
Я сразу подумал о 61-й стрелковой дивизии, которая перебрасывалась к нам с Восточного фронта и сосредоточивалась в городе Козлове. Положение в ней было, выражаясь на тогдашний манер, аховое. Боеспособностью и дисциплиной она на востоке не отличалась, к тому же, как это часто бывает, перед отправкой из нее забрали лучших командиров и комиссаров, приберегли для себя. В пути личный состав разболтался. Едва прибыла первая бригада, начались случаи прямого неповиновения. Обмундированы люди плохо, вооружение слабое. После знакомства с этой дивизией я хотел предложить Реввоенсовету расформировать ее, обратив личный состав на пополнение других, надежных соединений. Но если послать туда столь опытного командира, как Ворошилов… Даже не начдивом, а исполняющим обязанности: для этого достаточно на первых порах устного распоряжения Егорова, без утверждения Москвы. Только не обиделся бы Климент Ефремович: армиями командовал, был членом правительства Украины, и вдруг — на дивизию.
— Интересное соображение, — сказал Сталин, словно бы подчеркивая свои слова коротким, энергичным жестом руки. Это само собой получалось у него, когда он соглашался, утверждал что-то сразу, охотно, без малейшего колебания. — Пусть Ворошилов едет в шестьдесят первую. А насчет самолюбия он поймет. Это временно. Считаю, что он станет членом Реввоенсовета Конной армии.
— А она будет?
— Мы создадим ее в ближайшие дни, — уверенно ответил Сталин.
А Егоров, узнав о нашем предложении, как всегда, смог посмотреть еще дальше. Пусть, дескать, товарищ Ворошилов не только приводит в порядок 61-ю дивизию, но на базе ее создает резервную ударную группу. Добавим туда еще одну стрелковую дивизию, кавалерийские полки. Если почему-либо сорвется, затормозится наступление Буденного, у нас будет в запасе еще одна группировка, чтобы влиять на развитие событий.
Климент Ефремович сразу же выехал к месту службы.
18Что-то неладное произошло вдруг с Егоровым. Будто с разлета наткнулся человек на стену, ударился больно, сник, опустил крылья.
Для таких открытых натур, как Александр Ильич, таиться, скрывать что-либо — это мука мученическая. А он таился. Завелись у него среди штабных прихлебатели, поздним вечером проскальзывали к нему на квартиру или в салон-вагон. Вместе с ними хмельным зельем пытался Егоров залить какое-то лихо. По утрам выходил опухший, невыспавшийся, иногда даже небритый. Избегая встреч со Сталиным, старался скорее уехать в войска.
В конце ноября или в декабре, во всяком случае уже после наших крупных побед, меня среди ночи, часа в два, неожиданно пригласил Иосиф Виссарионович. Сам-то он уже тогда имел привычку ложиться поздно (или рано?), часа в три-четыре, но другим отдыхать не мешал, не дергал после полуночи, работая один. А тут — на тебе!
В кабинете — завеса табачного дыма. На диване, в самом углу растерянный, виноватый Егоров. Не в обычной своей позе (скрестив на груди сильные руки), а ссутулившийся, поникший. Сталин быстро ходил от стены до стены. Лицо возбужденное, глаза поблескивали сердито.
— Николай Алексеевич, — Сталин, как пистолетом, нацелился трубкой, какую должность вы занимали в пятом-шестом годах?
— Весьма скромную. Командовал полуротой.
— Значит, совершенно такая же должность! — Иосиф Виссарионович сказал это Егорову и вновь повернулся ко мне. — Николай Алексеевич, если бы вам тогда приказали стрелять в бунтовщиков, вы бы стреляли?
— Конечно!
— Вы слышите?! — воскликнул Сталин. — Объясните, почему?
— Я принимал присягу, давал клятву выполнить любой приказ. Без этого не может существовать никакая армия. А в политике мы не разбирались, офицерам категорически запрещалось интересоваться политикой. Мы с вами когда-то говорили об этом, Иосиф Виссарионович.
— Помню, — подтвердил он. — И со своей стороны добавлю: в пятом году вы оба были молоды, а молодежь чаще ошибается, чаще допускает промахи… Знаете притчу о фарисеях?
— Разумеется.
— Пусть тот, у кого нет ни одного греха, первым бросит в грешницу камень… Хороши бы мы были, если бы карали друг друга за прошлые наши недостатки!
— О чем речь, Иосиф Виссарионович?
— Речь о товарище Егорове, — чубук трубки нацелился на Александра Ильича. — Он был подпоручиком и вывел свою полуроту на площадь в Тифлисе. Ему было приказано преградить путь демонстрации возле Александровского парка, что он и выполнил. И даже получил награду за свои действия. Так я говорю, товарищ Егоров?
— Да, — впервые подал голос Александр Ильич.
— Теперь он узнал, что среди тех, кто вел рабочих на демонстрацию, был и я. Теперь его, видите ли, мучает совесть… Будто он мог предвидеть, что мы встретимся. Сплошная интеллигентщина! Хуже, чем у Достоевского! Как будто не Егоров впоследствии поднял своих солдат за революцию! Как будто не он вступил в нашу партию и вот уже второй год очень успешно сражается с нашими врагами!
— Камень был на душе, — смущенно произнес Егоров. — Как узнал, что вы там были, могли под пулю попасть…
— Какой такой камень?! — Голос Сталина зазвучал осуждающе. — Разве партии когда-нибудь не доверяла вам? Мы же прекрасно понимаем, какая была обстановка, какая неразбериха, особенно после царского манифеста. Все перепуталось. Когда солдаты-украинцы подпоручика Егорова стреляли по грузинским демонстрантам, в то же самое время командир сорок девятого Брестского пехотного полка грузин-полковник Думбадзе отдал приказ стрелять по рабочим Севастополя. А солдат того же полка еврей Яков Войтевлянер, почти не знавший русского языка, выстрелил в полковника Думбадзе… Только очень подготовленные политически люди могли тогда понять и оценить обстановку.
— Мучился, как от занозы в сердце, ей-богу, — вздохнул Егоров.
— Зачем мучиться? Сели бы мы с вами за стаканом чаю, поговорили бы о Тифлисе, вынули бы занозу из сердца и из головы. Как говорит пословица: кто старое помянет… А вы знаете, Николай Алексеевич, что он хотел сделать? в голосе Сталина звучала обида. — Он приготовил письмо Ильичу, кается в своих давних грехах и просит назначить его на менее ответственное место, где не будет терзать совесть. Он, видите ли, разбирается в искусстве, сам поет, жена у него актриса, и он мог бы стать директором Мариинского театра. А? Каково? Командующий главным фронтом республики — и Мариинский театр! Ну, разве не достоевщина?!
— В театре, товарищ Сталин, тоже борьба…
— Но не те масштабы! Вы здесь нужны, здесь решается судьба нашей революции. Я прошу и требую порвать письмо, которое вы мне показали. Оно принесет только вред и вам и всему нашему делу. Ильич хорошо знает, на каком посту от вас больше пользы. А если письмо станет известно Троцкому или его приспешникам, они не упустят случая облить вас грязью. В том числе и за Тифлис.
— Хорошо, товарищ Сталин, я сейчас же порву письмо, — поднялся Егоров, доставая конверт.
— И больше никогда не будем возвращаться к этому вопросу, — решительно произнес Сталин.
— Я рад, что разговор состоялся. Теперь между нами нет никакой стены.
— Очень ценю вашу откровенность, товарищ Егоров, — сказал Иосиф Виссарионович, заново набивая трубку. — И хочу, чтобы ничто не отвлекало нас от главного, не мешало нам развивать боевой успех. Перед нами Донбасс, перед нами важнейший экономический район, богатый углем, железом и хлебом. Это сейчас для Республики особенно важно. И освобождать Донбасс будете вы!
В обычное время, привыкнув, я почти не замечал акцента Иосифа Виссарионовича. Но когда Сталин говорил эмоционально, резко, в повышенном тоне, у него получалось «нэ» вместо «не» и особенно заметно, даже неприятно резало слух «ви-и» вместо «вы».
— Освобождать Донбасс будете ви-и, — повторил он, подчеркивая свои слова коротким, сильным движением руки.
19Только очень важная цель принудила Егорова и Сталина оголить штаб фронта, вместе отправиться в далекое и рискованное путешествие. Салон-вагон командующего и салон-вагон члена Реввоенсовета рядом, в центре состава. В соседнем пассажирском вагоне — оперативная группа штаба, Пархоменко, Щаденко и я. И Ворошилов со своей неизменной спутницей, одесской еврейкой Екатериной Давыдовной Горбман, с которой познакомился и оженился в ссылке на севере. И с той поры был неразлучен. Чего им не хватало для полного счастья, — это ребенка. Его во всю жизнь так и не дал им Бог, несмотря на привязанность Екатерины Давыдовым к мужу и их неразлучность.