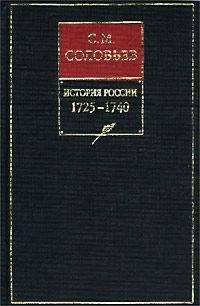Сергей Соловьев - История России с древнейших времен. Том 21. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1740–1744 гг.
Елисавета могла безнаказанно делать выходки против Остермана: человек, которого недавно величали царем всероссийским, должен был теперь бороться за сохранение своего значения и при настоящем правительстве. Главный враг его граф Головкин не был опасен по своей недаровитости, болезненности и отсутствию энергии; но Головкину помогали другие: генерал-прокурор князь Трубецкой и австрийский посланник Ботта, который, видя, что Остерман холодно относится к интересам Марии Терезии, передался на сторону Головкина и сделался его гувернером, по выражению английского посланника Финча. Но борьба с Остерманом была трудна, особенно в такое смутное время; и как прежде Бирон для противодействия Остерману ввел в Кабинет сперва Волынского, а потом Бестужева, так и теперь партия, противная Остерману, для той же цели решается призвать снова Бестужева. В движении против Остермана, который «запечатал Камень веры», Головкин и Трубецкой нашли верного союзника в новгородском архиепископе Амвросии Юшкевиче; всем вместе удалось уговорить правительницу возвратить Бестужева из ссылки. И вот Алексей Петрович снова в Петербурге и прежде всех иностранных министров делает визит маркизу Ботта.
Между тем одно из желаний Елисаветы было исполнено: Шетарди привез ей манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенгауптом для «достохвальной русской нации», которой объявлялось, что шведская армия вступила в русские пределы только для получения удовлетворения за многочисленные неправды, причиненные шведской короне иностранными министрами, господствовавшими над Россиею в прежние годы, для получения необходимой для шведов безопасности на будущее время, а вместе с тем для освобождения русского народа от несносного ига и жестокостей, которые позволяли себе означенные министры, чрез что многие потеряли собственность, жизнь или сосланы в заточение. Намерение короля шведского состоит в том, чтоб избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранять доброе соседство. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и для собственных целей будут господствовать над русскими и их соседями-союзниками. Вследствие таких справедливых намерений его королевского величества должны и могут все русские соединиться со шведами, и, как друзья, отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества, и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления.
Елисавета очень обрадовалась манифесту, но в противном лагере он, разумеется, произвел противоположное действие. Обер-гофмаршал Левенвольд услыхал об нем от принца Антона, а потом, когда приехал к Остерману, то хозяин прочел его ему и начал рассуждать, что в манифесте о чужестранных весьма противно написано и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии; другого теперь делать нечего, как лучшую военную предосторожность взять, и надобно определить, что, где такие манифесты явятся, в народе их не разглашать, а собирать в Кабинет, и чтоб он, Левенвольд, донес об этом правительнице. Левенвольд согласился. При свидании с правительницею она спросила его, слышал ли про манифест. Левенвольд отвечал, что слышал и что он о чужестранных, о министерстве и о незаконном наследстве очень остро написан и касается самой фамилии, причем упомянул о мере против распространения манифестов, указанной Остерманом. Принцесса сказала на это: «Правда, очень остро писан», и тем дело кончилось. Остерман, однако, не позабывал о манифесте: от имени русского главнокомандующего он написал письмо к Левенгаупту, что манифест, подписанный его именем, оставлен в деревне шведским отрядом; по всему видно, что манифест выдан подложно под его именем, потому что такие манифесты между христианскими и политическими народами не в употреблении. Член Иностранной коллегии и правая рука Остермана, Бреверн принес это письмо Левенвольду, с тем чтоб тот отдал его правительнице. Анна Лоопольдовна, взявши письмо, сказала: «Хорошо» – и оставила его у себя.
Остерман напрасно беспокоился насчет манифеста; цесаревна Елисавета напрасно радовалась ему: нет сомнения, что он не произвел бы никакого действия, если бы даже и был распространен. Хлопоты о манифесте, хлопоты о присутствии молодого герцога Голштинского при шведском войске происходили со стороны Елисаветы от желания, чтоб дело началось как-нибудь и именно началось в войске. Мы уже упоминали, в каком затруднительном положении находилась она: у нее было множество приверженцев, за нее была гвардия, и, однако, не было человека, который бы стал во главе движения, сделал бы для нее, во имя ее то, что сделал Миних для Анны Леопольдовны. Елисавета должна была сама начать дело, сама вести солдат: легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие, не встанет ли войско в Финляндии, возбужденное манифестом или присутствием внука Петра Великого в шведской армии. Но долее медлить было нельзя. 23 ноября в понедельник был обыкновенный прием (куртаг) во дворце; Шетарди заметил, что правительница, долго ходив взад и вперед, отправилась в отдаленную комнату, куда велела позвать Елисавету, которая, возвращаясь оттуда, имела взволнованный вид. На другой день поверенный сообщил Шетарди, что разговор, так взволновавший цесаревну, шел об нем: описавши его самыми черными красками, Анна объявила, что решилась просить короля об его отозвании из Петербурга, и внушала Елисавете, что она не должна более принимать такого человека. Елисавета отвечала, что это ей трудно сделать: можно сказать посланнику раз, два, что ее нет дома, нельзя сказать этого в третий раз; вчера, например, Шетарди подъехал к ее дому в ту самую минуту, когда она, выйдя из саней, входила к себе. Правительница, не обратив внимания на эту отговорку, продолжала настаивать на своем. Тогда Елисавета сказала: «Можно сделать гораздо проще: вы правительница, прикажите Остерману сказать Шетарди, чтоб не ездил ко мне более». Правительница отвечала, что так нельзя сделать, нельзя раздражать таких людей, как Шетарди, и подавать им явный повод к жалобам. Елисавета возразила, что если Остерман, будучи главным министром, имея повеление правительницы, не смеет этого сделать, то она, цесаревна, тем менее решится на это. Правительница, раздосадованная противоречием, приняла повелительный тон; Елисавета в свою очередь возвысила голос.
Разговор этот трудно выдумать: по всем вероятностям, он был веден на самом деле и был передан Шетарди исключительно так, как всего более должен был интересовать его. Но, как видно, была вторая половина разговора, которая должна была гораздо сильнее взволновать Елисавету; по другим известиям, правительница сказала ей: «Что это, матушка, слышала я, будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армиею неприятельскою и будто ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции в той же силе делает; в письме из Бреславля советуют мне немедленно арестовать лекаря Лестока; я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Лесток окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат». Елисавета отвечала: «Я с неприятелем отечества моего никаких алианцев и корреспонденций не имею, а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю».
Это был первый серьезный разговор с правительницею, из которого Елисавета должна была понять всю опасность своего положения. Если уже Анна Леопольдовна решилась высказаться, то чего ждать со стороны Остермана; правда, Анна Леопольдовна в разладе с мужем и Остерманом; но общая беда легко может их соединить, и правительница в своих решениях против Елисаветы будет точно так же оправдываться, как и в решениях против Миниха: «Муж и Остерман не давали мне покоя». Лестока возьмут, станут пытать, и чего он тогда не наскажет на себя и на Елисавету! Таким образом, разговор с правительницею 23 ноября должен был побудить Елисавету действовать; событие следующего дня не оставило ей возможности сколько-нибудь еще промедлить своим движением.
24 ноября в 1 часу пополудни правительство отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов на основании, как говорили, полученного известия, что Левенгаупт идет к Выборгу; но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность ее к цесаревне, и люди близкие, Воронцов, Разумовский, Шувалов и Лесток, начали настаивать, чтоб Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот. Легко понять, чего стоило женщине, не привыкшей к деятельности, уступить этим настояниям. Елисавета представляла своим советникам всю опасность предприятия, на что Воронцов сказал: «Подлинно, это дело требует немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого». Эти слова могли подстрекнуть самолюбие Елисаветы; но надобно признать, что Елисавета, согласившись вести гвардию, действительно доказала, что она дочь Петра Великого. Разумеется, больше всех торопил Лесток, который каждую минуту ждал, что придут арестовать его; он требовал, чтоб немедленно было послано за гренадерами. После, уже будучи в изгнании, он рассказывал одному французскому путешественнику, будто Елисавета никак не соглашалась начать дело и он убедил ее тем, что показал две картинки, нарисованные наскоро на игральных картах: на одной была представлена Елисавета в монастыре, где ей обрезывают волосы, на другой – вступающею на престол при восторгах народа; Лесток предложил ей на выбор то или другое, и Елисавета выбрала последнее. Лесток мог рисовать подобные картинки на картах: это было совершенно в его духе; но, разумеется, Елисавета в решительную минуту не имела нужды в таком детски наглядном убеждении: она давно знала, что ей грозят монастырем.