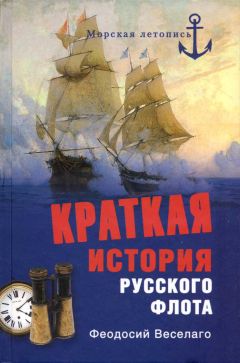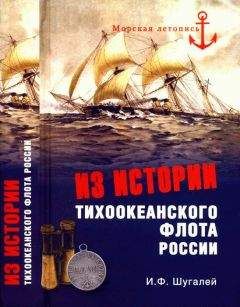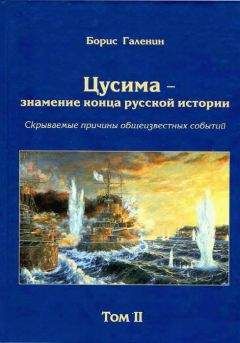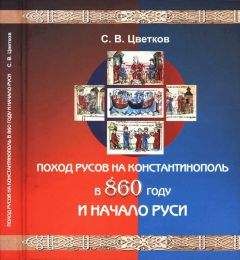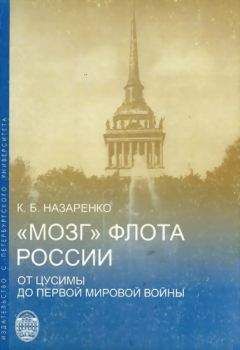В. Мавродин - Начало мореходства на Руси.
Такова была в основных чертах эволюция русских судов. Во времена образования и расцвета Киевского государства и в период феодальной раздробленности до XIII в., т. е. в хронологических рамках нашего исследования, существовало, конечно, немало типов судов. Наряду с совершенными судами с высокими бортами встречались и архаические, наряду с большими — маленькие.
В XI–XII вв. упоминаются «насады» («носады»). О них говорят «Повесть временных лет», Ипатьевская летопись, Новгородские летописи, «Русская Правда», «Слово о полку Игореве». [240]
«Насады» были вместительными судами и, повиди-мому, были близки к «набойным лодьям».[241]
«Русская Правда» сохранила нам еще упоминания о «струге» и «челне». О их величине говорит статья «Русской Правды» (Троицкий список), которая позволяет судить о размерах и ценности русских судов того времени. Речь идет о штрафах («продаже») за кражу судов. Самый высокий штраф полагается за кражу морской лодьи — 3 гривны, за набойную ладью устанавливается штраф в 2 гривны, за лодью — 60 кун (в гривне 50 кун), за струг — гривна и за челн — 20 кун. [242]
Следовательно, струг дешевле лодей и, несомненно, меньше их. И, наконец, понятно маленький речной челн стоит дешевле всех.
Близок челну учан, упоминаемый в «Договорной грамоте Смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригой и Готским берегом» 1229 г., в которой учан приравнивается к челну («у кого ся избиеть оучан, а любо челн…»), хотя быть может учан больше челна. [243]
Источники интересующей нас эпохи в истории Руси сохранили и ряд названий судов иноземного происхождения. К числу таковых следует отнести встречающийся в летописи один раз термин «скедия» (греч. — sksota),[244]трижды — термин «кубара» (греч. — ko]AJ3dptov),[245]один раз под 1182 г. га-лея (галера), а шнеки (сканд. «feimk»), уже упоминавшиеся нами выше, указания на которые мы встречаем в новгородских летописях и в «Повести об Александре Невском», а с начала XIV в. лойвы и ушкуи (слова финно-угорского происхождения). Кроме того встречаются «триреи» (триеры) и дроманы (дромоны). Некоторые из этих терминов надолго закрепились на Руси, другие же (скедия, кубара, шнека, триреа, дроман) скоро исчезли и применялись чаще всего по отношению ко вражеским судам.[246]
Следует отметить, что как термин «корабь» вошел в греческий язык, а из него попал и в другие языки народов стран Средиземноморья, так и русский термин «лодья» вошел в языки соседей Руси на севере, шведов (lodia) и финнов (lotia).[247]
Судостроительное искусство на Руси непрерывно совершенствовалось. Под 1151 г. Ипатьевская летопись помещает рассказ о речном сражении на Днепре между князем Юрием Долгоруким и Изяславом Мстиславичем, князем киевским. В этом сражении на стороне киевлян действовали суда нового типа.
«Бе бо исхитрил Изяслав лодьи дивно: беша бо в них гребци невидимо, токмо весла видити, а человек бяшеть не видити; бяхуть бо лодьи покрыты досками, и борци стояще горе в бронях и стреляюще, а кормьника два беста, един на носе, а другый на корме, аможе хотяхуть, тамо поидяхуть, не обращаюше лодий». [248]
«Лодьи» Изяслава Мстиславича были устроены так, что гребцы были укрыты дощатой палубой, которая одновременно служила помостом для облеченных в броню и обстреливающих неприятеля воинов. «Лодьи» имели по два руля-весла, одно на корме, и одно на носу, что давало им возможность, не поворачиваясь, идти по желанию и передним и задним ходом. Это было первое собственно военное русское судно. Сложными, с «чердаками», богато изукрашенными резьбой, были и новгородские суда, память о которых сохранил наш народный эпос. Трудно приурочить былины о Соловье Буди-мировиче и о Садко именно к рассматриваемому нами периоду времени, но если учесть, что в Садко можно усматривать летописного Сотко Сытинича, упоминаемого в новгородской летописи под 1167 г., то и некоторые элементы новгородского народного эпоса мы можем так же отнести к XII в. [249]
Какова же была грузоподъемность русских судов? Прямые указания мы имеем только на грузоподъемность русских судов, совершающих морские походы. Договор Олега 907 г. говорит прямо «а в корабли по 40 мужь».[250]
Из сочинения Константина Багрянородного «De ceremoniis aulae Byzantinae» мы узнаем, что на 7 русских судах помещалось 415 воинов, на 10 (может быть 11–12) — 629 воинов. [251]
Таким образом, надо полагать, что русские морские суда вмещали 40–60 человек. Конечно, в лодьи грузилось оружие, одежда, пища, пресная вода. Все это заставляет нас прийти к выводу о достаточно больших для морских походов размерах «морских лодий». В то же самое время русские лодьи были легки, подвижны и, относительно, невелики, что обусловливало и соответствующую тактику морского боя.
В распоряжении судостроителей древней Руси имелись разнообразные и довольно совершенные орудия труда: топоры, долота (простые и втульчатые), пилы, сверла, скобеля, тесла.
Скобелем снимали кору с колод, теслом отделывали доски («тес»), выдалбливали и обстругивали лодьи, сверлом проделывали отверстия в досках и кокорах, сшиваемых прутьями или сколачиваемых деревянными гвоздями.
Очень рано в судостроении на Руси стала применяться пила. Пилы были небольшие по своим размерам и напоминали современные «ножовки». Употреблялись они только для мелких работ. Деревья рубили топорами, тесали доски тоже топорами или теслами. В искусных руках русских «древоделов» топор нередко становился универсальным орудием труда.
Отправляясь в морской поход, русские брали с собой инструменты, необходимые для починки оружия и для ремонта и строительства лодий.
Так например, захватившие в 943 г. Бердаа русские «привешивают… на себя большую часть орудий ремесленника, состоящих из топора, пилы и молотка и того, что похоже на них». [252]
Строительство простых судов было доступно каждому, умевшему обращаться с топором, но совершенствование русских судов привело к выделению специалистов кораблестроителей.[253]
Из сочинения Константина Багрянородного «De admini-strando Imperil» мы узнаем кое-что о технике судостроения и оснащении судов. Он рассказывает, что «однодеревки (uovoiuXa), приходящие в Константинополь из внешней Руси», изготовляются «оснащаются следующим образом: «славяне… рубят однодеревки в своих горах в зимнюю пору и, обделав их, с открытием времени (плавания), когда лед растает, вводят в ближние озера. Затем, так как они (озера) впадают в реку Днепр, то оттуда они и сами входят в ту же реку, приходят в Киев, вытаскивают лодки на берег для оснастки и продают руссам. Руссы, покупая лишь самые колоды», превращают далее такую колоду в корабль.[254]
Таково начало строительства древнерусского «корабля» времен Олега и Игоря. Прежде всего в дремучем лесу выбиралось огромное дерево: осина, осокорь, липа или дуб. Исполины лесов в те времена были не редкость. Иосафат Барбаро еще в XV в. видел на Руси липы, выдолбленный ствол которых служил колодой — остовом лодки, вмещавшим 8—10 людей и столько же лошадей. [255]Срубив дерево, его обрабатывали и путем обтесывания, долбления и выжигания колоде придавали лодьеобразную форму. Затем колоду распаривали и разделывали ее кольями для придачи соответствующей формы и размеров. Операция эта требовала большого количества времени.
Существовал в свое время и другой способ приготовления такой колоды, требовавший от двух до пяти лет. Он заключался в том, что в дереве еще на корню делалась трещина, которая постепенно расширялась путем вбивания клиньев и распорок. Когда дерево принимало соответствующую форму, его срубали, распаривали и, мягкое и податливое, окончательно отделывали распорками и топорами. [256]
Такие колоды-однодеревки и пригоняли весной в Киев в IX–XI вв. Далее Константин Багрянородный сообщает, как «руссы» оснащивают однодеревки, снабжают их уключинами, веслами и прочими снастями. Тут же их обшивают досками. Строились «набойные лодьи». Доски прикреплялись к колоде либо деревянными гвоздями,[257]либо пришивались (отсюда позднейшее «шитик») ивовыми прутьями или корнями можжевельника. [258]
Готовясь к выходу в море, на острове Евферия, «руссы» в случае, если это необходимо, дополнительно («опять») «снабжают свои однодеревки недостающими принадлежностями, парусами, мачтами и реями, которые привозят с собой».[259]
Из этого отрывка сочинения Константина Багрянородного мы узнаем, что окончательная отделка русской лодьи, направляющейся в Царьград, происходила уже в пути, на острове Евферия (Елферия, Ефе-рия), последней стоянке русских перед выходом в море. Здесь они прилаживали к своим кораблям мачту с реей («шегла»), устраивали уключины («ключь»), паруса («пре»), весла, якорь, а быть может, катки и колеса для «волоков» (в этой связи не покажется уже столь фантастическим рассказ летописи о том, как Олег поставил свои суда на колеса). Иногда, как во время похода Владимира Ярославича 1043 г., лодьи снабжались таранами. Быть может для непотопляемости и остойчивости «корабли» древних руссов, как и чрезвычайно на них похожие «чайки» и «дубы» казаков, по бортам окружались связками сухого черета (камыша).