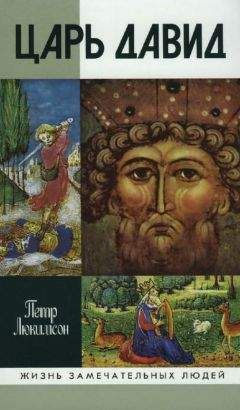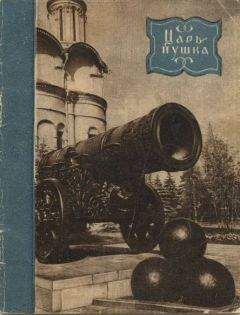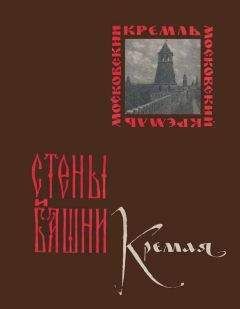Сергей Карпущенко - Лже-Петр - царь московитов
- Тут, - молвил, - сомнениям моим пришел конец, ибо с какой бы стати ненастоящему царю из немцев переться к какой-то Анхен? Али в Москве других девок мало? Свистни только - тучей налетят в спальню цареву! Ноги мыть ему станут да опосля воду пить. Так нет же - к Монсихе захотелось!
Слово вставил Стрешнев:
- Да, все, будто, верно - немцу Анна без нужды. Евдокия его вполне ублажить могла, да и казну при сем разорять не нужно было бы. Здесь какая-то неясность. Ну, дале говори!
- А дале пришел ко мне два дня назад Франтишек Лефорт. Пришел, попросил вина налить, пьет и плачет, пьет и плачет. Я ему и молвил: "Чо ж ты так взгоревался? Какого досуга ради пришел ко мне слезы лить? Али мамка я твоя, нос тебе утирать стану? Вон пошел!" Франтишек же унялся да и говорит мне: "Нет прощения Францу Лефорту! Еще в Амстердаме спознал я доподлинно, что царь Петр и не царь вовсе, а природный швед. Не сказал я тогда о том никому, мечтал, зная сей секрет, быть в Русском государстве первым после царя человеком, но как изуверства шведские узрел, истязания да многие казни, так разум во мне возмутился, воспротивился. Корил я щведа, уняться просил, но не внимал-де он и самому мне лютой казнью грозил, ежели мешать буду. Вот, не вытерпел я и к тебе, Александр Данилыч, плакаться пришел, поелику могут меня, Франца Лефорта, русские люди в том уличить, что царя Петра я подучил народ мучить всяко и истязать. Сердце мое, говорит, так болит, что недолго мне, видно, жить осталось!" Ну, каково? - закончил Данилыч и обвел присутствующих вопрошающим взглядом.
- Да, вполне быть может... - так глубоко вздохнул Ромодановский, что пышные его усы всколебались.
- А можно ли Францу веру полную давать? - засомневался Шеин. - Не оговаривает ли государя? Не смуту ли возжечь в державе хочет?
- Могло бы быть и так, - кивнул Меншиков и, глубоко засунув руку в камзольный карман, со значительным видом выудил оттуда конверт. - Могло бы, кабы сегодня не доставил мне гонец энту вот депешу. Гонец от князя Хилкова, от Андрея Яковлевича, передавая послание от резидента нашего в Стекольном, на словах сказал, что надобно лист бумаги спервоначалу нагреть над свечкой, а опосля читать. Вот и прочитал я...
- А ну, Данилыч, подай сюда, мы тоже почитаем, - потянулся за письмом Стрешнев, отстранил лист подальше от старых глаз, сказал: - Рука Хилкова, признаю. А пишет он меж строчек так: "Государь мой, Александр Данилович. Сообщаю милости твоей о происшествии изрядной важности, способном повлечь за собою смуту великую, ежели не принять меры должные, о коих ты с боярами должен держать совет, вначале поразмыслив о сем деле лично. Так вот, явился ко мне в резиденцию сего года августа в десятый день некий оборванец, назвавшийся государем русским Петром. Весьма подробно сей человек изложил мне обстоятельства пленения шведами его, то его государя, якобы с той целью, чтобы посадить на престол Российский своего агента. Обликом сей человек был похож на истинного государя до чрезвычайной степени. Говорил он мне, что в Саардаме подали ему сонного зелья в пиве, что вызвало бесчувственное состояние, опосля чего и учинили ту подмену. Я, не имея права отказать особе, похожей на царя Петра, подчинился его приказу - под видом секретаря провел в королевский замок, где он хотел найти полную сатисфакцию от Карла Свейского за поругание своего царского достоинства. Что приключилось с тем человеком после того, как я его оставил в замке, не ведаю. Про себя же мню, что двух одинаковых физиономий, фигур и голосов в натуре быть не может, а посему до сих пор остаюсь в крайнем недоумении насчет того, как вы там в Москве не уличили вернувшегося с посольством человека в самозванстве, ибо мне в Стокгольме о том ничего не слышно было. Я же сомнений не имею в том, что ко мне явился убежавший из плена государь, но что с ним стало после, не ведаю. Сильно о той подмене скорблю. Как бы не вышло в государстве смуты. Благорасположенный к милости твоей князь Андрей Хилков".
Не послышалось ни одного возгласа удивления - одна лишь тяжкая грусть и оцепенение сковали молчавших людей. Наконец со слезой в голосе тихо молвил Федо Ромодановский, и странным казался этот всхлипывающий голос в устах матерого боярина, грозного главы Преображенского приказа:
- Осиротели, ратья, без отца остались...
- Да не токмо без отца, а с самозванцем, с оборотнем на троне! - точно только сейчас осознав всю степень беды, постигшей государство, выдохнул Шеин. - Стрельцов под топор пустил! Над нами ругался, заставляя заместо палачей головы им сечь!
- Царицу в монастырь послал супротив древним законам брачным! - подхватил Стрешнев. - С б... немецкой жить будет, осрамив шапку Мономаха! Иноземцев изо всяких стран кличет, чтобы они над русским войском команду имели!
- Понятно для чего - чтобы супостата, шведа иль немца, бить не велели! - вскричал Головин, а Меншиков, вскочив из-за стола, в припадке дикой ярости заорал, перекрывая голоса волновавшихся бояр:
- Сейчас же!! В Кремль! Задавим самозванца! Нет, сперва в застенок его, чтобы попомнил муки стрелецкие! Жилы из него вытащим, а после четвертуем, а обрубки в бочку сложим, солью засыпем да и Карлу Свейскому пошлем! Пусть знает, как русских царей в бочку законопачивать!
Но призыв Данилыча не вызвал у бояр сочувствия. Напротив, посмотрели на Алексашку со враждебностью, не понравилась им его горячность. Ромодановский, в глубине души презиравший выскочку, нахмурясь, так ему сказал:
- А ты, Санька, не спеши-ка советы нам давать. Молод да и породой не вышел. Кажись, окончился твой пир, попомним таперя тебе, как государя на Кукуй водил. Ты-то его и спортил, может?
Не страх, а ужас мгновенно омрачил сознание Данилыча, сильно пожалевшего, что не утаил ни признание Лефорта, ни письмо Хилкова.
- Что ты, Федор Юрьич, такое говоришь? Зачем бы мне государя портить? Али я при государе не сладко жил?
Ромодановский взглянул на Меншикова со свирепым презрением:
- То-то сладко! Нагулял жирец на крестец, ну, да мы ужо его спустим. Таперя же, бояре, вот о чем порешить надобно. Самозванца сего на куски рубить да в бочке солить покамест рано. Народ, хоть и болтает о нем, как о немце, но ежели на самом деле уличим в нем такового да и останемся без государя, то оборот оный лишь к смуте приведет - почище баня учинится, чем опосля Годунова случилась. И уж если мы за Русь радеем, то дождаться надо, покуда малолетний Алексей совершенства лет и ума не достигнет, али настоящий царь не отыщется. Нам же всем о прозрении нашем молчать нужно крепко - едва спознает о нем самозванец, в одночасье головы нам сбреет, а уж опосля сего некому будет о государстве порадеть.
- Верно! Верно говоришь, Федор Юрьич! - закивали бояре. - Будем ждать, пока Алексей Петрович в возраст не придет - тогда и поквитаемся со шведом, али с немцем - кто он там такой.
Тихон Стрешнев же добавил особо, когда утихомирились другие:
- Нет, не просто ждать мы будем - эдак, ожидаючи, можно оказаться молчащими пособниками вора, на все его шведские аспидные мерзости взирающими с равнодушием. Вот коли мы спознали, кто укрылся под личиной государя, то исподтишка станем все вредные его намеренья исправлять, чтобы ущерба державе наблюдалось малым-мало. К пользе, может статься, каждое шведское помышление, злопыхательство повернем. Сила наша в том, что мы сведали, кто носит бармы государя. Самозванец же, хоть и имеет право нами повелевать, но в нашей жизни ещё новик, да и не догадывается, что раскушен.
И, широко перекрестившись, Стрешнев молвил:
- Ну, Богу нужно помолиться, чтобы помог нам одолеть вора, втесавшегося в царские хоромы.
Бояре, тяжело опустившись на колени, долго молились на образа в драгоценных ризах, что лепились в красном углу просторной горницы в палатах князя Ромодановского.
9
ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ И ПРАВО СТАТЬ СОЛДАТОМ
По крепкой, укатанной дороге, то и дело оглядываясь, ненадолго останавливаясь, чтобы перевести дыхание, неуклюже бежал нескладный с виду человек. Бежал он от города, и по всему было видно, что желает побыстрее убежать как можно дальше, и два молодых парня, закусывавших на обочине, спустив ноги в сухую канаву, с большим, но в то же время озорным любопытством следили за приближающимся к ним странным малым, длинные волосы которого развевались на бегу. Палка, ловко просунутая одним из них между ног бегущего, прекратила стремительное движение долговязого, и он растянулся на дороге во весь свой немалый рост, страшно сморщился от досады и боли, а когда, повернув голову, понял, что стало причиной его падения, сразу вскочил и, дико выкатывая глаза, бросился на приятелей.
С великой яростью, желая, как видно, хорошенько проучить обидчиков, бросался он с кулаками то на одного, то на другого, но парни те были не робкого десятка, да и, похоже, привыкли отвечать ударом на удар, и скоро долговязый снова валялся в дорожной пыли, сбитый на землю кулаком. Кровь, потекшая из короткого носа, беспомощно разбросанные по сторонам руки красноречиво говорили, что победа осталась за его врагами, но воспользоваться ею в полной мере молодые люди не хотели. Напротив, один из них, бородатый, с длинными вьющимися волосами, протянул поверженному противнику руку и сказал на прекрасном верхненемецком: