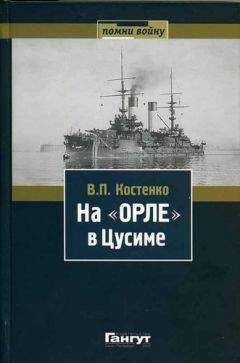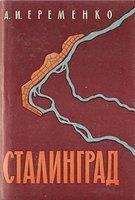Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике
Исследователи уже отмечали «это стремление наделить поэзию функцией Откровения, делая ее средоточием человеческого опыта и его высшим проявлением… точкой, с которой человек может всесторонне обозреть удел свой… слиться с живым ритмом всего сущего, как бы стать причастным ему, сохраняя при этом способность перевести все сущее в образы и формы человеческой коммуникации» (Garin 1954, р. 50). Но коль скоро это новое чувство подспудно заявляет о себе в стихах поэтов, писавших на народном языке, и явно — в редких пассажах представителей Проторенессанса, то схоластическая теория остается закрытой для такого видения и по-прежнему продолжает считать, что поэзия Писания — это нечто иное, не столь смутное, более точное в своих аллегорических отсылках и в любом случае не являющееся плодом творчества одного лишь человека. Глубинное видение мистика, эстетический экстаз, проникнутый верой и благодатью, не имеют ничего общего с поэтическим экстазом в романтическом смысле этого слова. Нельзя усматривать в дидактической поэзии более глубокое содержание, чем в философском рассуждении.
Гарен (1954) полагает, что в Средние века начинает оформляться представление о поэзии как поэтической интуиции, противоположной дианоэтическому объяснению, характерному для философии. Мы вернемся к этому вопросу в параграфе 11.4, но уже здесь можно отметить, что речь идет всего лишь о теоретических начинаниях, не сложившихся в какую-либо альтернативную теорию. Соотношение между ноэтической интуицией и дианоэтическим толкованием устанавливается разве что в связи с различением между мистикой и философией. Схоластическая теория искусства оставалась глухой к этой проблеме. Однако вряд ли ее стоит за это упрекать, ведь ее бесспорная значимость заключается в рассмотрении других аспектов художественного делания, в разработке представления об искусстве как рукотворной конструктивной деятельности; в осознании того, что в каждой технической операции заключен принципиально важный момент художественности, а в каждом художественном сообщении проявляется собственно техническое мастерство.
11.3. Идея как образец
Другая проблема, дискутировавшаяся в средневековой теории искусства, которая также не могла дать удовлетворительный ответ на продиктованные поэтической практикой и саморефлексией запросы, — это проблема образцовой идеи, в соответствии с которой художник работает, и, следовательно, проблема изобретения. С развитием античной эстетики платоновское понятие идеи (которое изначально было призвано умалить значимость искусства) постепенно становится эстетическим понятием, означающим внутренний образ, возникающий в воображении художника. На протяжении всего периода эллинизма происходила теоретическая переоценка труда художника, и мало-помалу стал формироваться тезис о том, что он может создавать идеальный образ красоты, неизвестный в природе. Филострат уже наделяет художника способностью освобождаться от чувственно воспринимаемых образцов и привычных форм восприятия. Начинает складываться понятие фантазии, которое уже содержит в себе (по мнению ряда современных ученых) все предпосылки интуитивистской эстетики (ср.: Rostagni 1955, р. 356). Стоики способствуют развитию этой тенденции своей идеей о врожденном знании, а Цицерон в трактате «De or at ore» («Об ораторе») излагает учение о внутреннем образе, превосходящим всякую чувственную реальность.
Но если species (понятие, идея) является чисто мыслимой (cogitata), она оказывается или менее совершенной, чем заключенные в природе формы, или заставляет думать о том, что подлинным метафизическим достоинством обладает идея художественная. В сочинениях Плотина начинает утверждаться вторая тенденция. Внутренняя идея — это совершенный и высший первообраз, благодаря которому художник, посредством акта интеллектуального видения, овладевает теми первоначалами, которыми вдохновляется природа. Искусство стремится к тому, чтобы эта идея отразилась в материи, однако добиться этого можно лишь ценой огромных усилий и лишь частично: материя, о которой говорит Плотин, противится оформлению со стороны внутреннего образа (в отличие от материи Аристотеля, которая не противоборствовала своей форме). При этом центр тяжести приходился не на процесс воплощения идеи, а на достоинство внутреннего видения, этого «фантастического» первообраза, сокрытого в уме художника. [28]
Средневековые мыслители — как аристотелики, так и платоники — ведут речь об идеях-первообразах, присутствующих in mente artificis (в уме художника), и, не слишком много уделяя внимание проблеме их сообразования с материей, утверждают, что именно в свете такого первообраза художник и создает свое произведение. Но как формируется этот первообраз в сознании творца? Откуда он приходит и благодаря каким внутренним ресурсам художник может его вообразить?
Согласно Августину, дух человека обладает способностью укрупнять или уменьшать окружающие его вещи, способностью перерабатывать весь тот накопленный в памяти опыт; так, например, добавляя какие-либо элементы к образу ворона или что-либо отнимая от него, мы можем прийти к чему-нибудь такому, что не существует в природе (Epistula 7). По существу, перед нами работа воображения, о которой говорит Гораций в начале своего «Послания к Пизонам» («Ad Pisones»); несмотря на те богатые возможности, которые предоставляла Августину его теория врожденного знания, он, по сути дела, находится в русле теории подражания. Если мы захотим отыскать средневековые предпосылки учения о вдохновении, нам стоит скорее обратиться к Феофилу (к уже упомянутой «Schedula»), занимавшему более радикальную позицию по этому вопросу (как мы уже видели в предыдущей главе).
Сегодня мы понимаем, что неповторимость произведения искусства следует усматривать не в идее, ниспосланной через благодать и независимой ни от опыта, ни от природы: в искусстве сходятся воедино все виды нашего опыта, переработанные и процеженные в соответствии с обычной работой воображения. Если что и делает произведение искусства неповторимым, так это тот способ, благодаря которому упомянутая переработка обретает конкретные черты и предлагается восприятию во взаимодействии пережитого опыта, художественной воли и самоценности обрабатываемого материала. Однако тема совершенной внутри себя идеи, которую следует реализовать в произведении, долгое время занимала эстетику Нового времени, и дискуссии по этому поводу были полны глубоких познаний и прозрений. В этой связи необходимо проследить путь ее исторического развития. Средневековье завещает эту тематику Возрождению и маньеризму, однако в своем наиболее значимом выражении, а именно в аристотелистской теории искусства, ему так и не удается удовлетворительным образом объяснить феномен замысла, то есть так, чтобы создать предпосылки для дальнейшей дискуссии.
Согласно св. Фоме идея вещи, которую надо создать, присутствует в уме художника как образ, как forma exemplaris ad cujus similitudinem aliquid constituitur, то есть как образцовая форма, в подражание которой нечто создается. Предвидя форму того, что он собирается творить, творческий интеллект заключает в себе — на уровне идеи — самую форму подражаемой вещи.
Аристотелизм этой позиции подчеркивается тем фактом, что идея предстает не просто как идея субстанциальной формы, формы, отъединенной от материи, платоновской сущности, тотальная осуществимость которой вызывает сомнение, а как образец формы, постигнутой в ее связи с материей и образующей с нею определенное единство:
«Undeproprie idea non respondet materiae tantum, пес formae tantum; sed composito toti respondet una idea, quae est factiva totius et quantum adformam et quantum ad materiam».
«Следовательно, собственно идея не соответствует только материи или только форме, но всему составу (материи и формы) соответствует одна идея, которая движет целым как в том, что касается формы, так и в том, что касается материи».
(De ventate III, 5: Opera omnia XXII 1, p. 112).Организму, который надо создать (поскольку и здесь, как видим, св. Фома акцентирует внимание на органическом взаимодействии составляющих, а не на отвлеченной идее) предшествует единственная образцовая форма (заметим, что акцент, как обычно, делается на органическом единстве): художник обдумывает строительство дома и одновременно думает о всех его параметрах — периметре, высоте и так далее. Только второстепенные признаки обдумываются постфактум, по завершении произведения; если брать рассмотренный выше пример, художник будет думать об украшениях, стенной живописи и всем прочем. Отметим, что и здесь художественный организм мыслится в ракурсе своей строго функциональной направленности: гедонистические по своему характеру детали не соотносятся с подлинно художественной концепцией.
Если речь идет о воспроизведении существующего в природе объекта, тогда этот образец формируется в уме художника благодаря акту подражания; однако если созданный объект представляет собой нечто новое (дом, вымышленная история, статуя чудовища), тогда первообраз создается фантазией или воображением (ср.: Chenu 1946). Оно представляет собой одну из четырех внутренних потенций, относящихся к области восприятия (наряду со здравым смыслом, способностью оценки или размышления и памятью), и заключает в себе хранилище пережитого опыта: quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum (словно некое вместилище форм, воспринятых чувством) (S. Th. I, 78, 4). Следовательно, художник творит посредством воображения, благодаря которому перед его взором предстает — как нечто реально существующее — образ, лишь напоминающий подсказанные памятью формы или комбинирующий их между собой (Sentencia libri de anima II, 28, р. 190–191; p. 29, р. 193–194; 30, р. 198–199). Подобная комбинация характерна для фантазии; чтобы обосновать ее, нет необходимости прибегать к другим способностям.