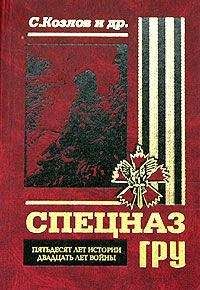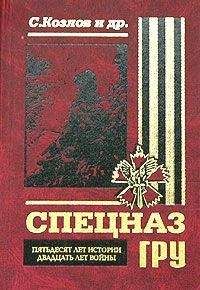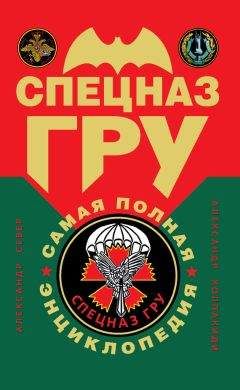Марк Блок - Феодальное общество
Это почтение к свершившемуся некогда факту оказывало мощное воздействие на систему вещных прав. В течение всей феодальной эпохи очень редко говорят о собственности — будь то земля, будь то право повелевать людьми; еще реже — если такой случай вообще встречается где-либо, кроме Италии, — эта собственность становится предметом тяжбы. Стороны, как правило, судятся из-за «сейзины» (по-немецки Gewere). В XIII в. парламент капетингских королей, находившийся под влиянием римского права, тщетно оговаривал во всяком решении по поводу «сейзины» право на «петиторий», т. е. на иск о признании собственности: нет никаких данных, что предусмотренная таким образом процедура когда-либо осуществлялась.
Чем же была эта пресловутая «сейзина»? Она не являлась в точном смысле владением, которое приобреталось путем простого захвата земли или права. Но это было владение, узаконенное временем. Предположим, что два тяжущихся спорят о поле или о судейской должности. Кем бы ни был нынешний обладатель, победу одержит тот, кто сумеет доказать, что он возделывал эту землю или вершил суд в течение предыдущих лет, или — что еще лучше — докажет, что его отцы делали то же еще до него. Для этого он, если дело не должно решаться ордалиями или судебным поединком, будет ссылаться на «человеческую память, насколько она уходит в прошлое». Если он и представит документы, то лишь затем, чтобы пособить памяти, и если они подтверждают передачу ему права, то это будет право на «сейзину», то есть владение по праву давности. Стоило дать доказательство длительного пользования, и никто уже не считал нужным доказывать что-либо еще.
Слово «собственность» в применении к недвижимости было еще и по другим причинам почти лишено смысла. Или же надо было бы говорить — как обычно делали позже, располагая более разработанным юридическим словарем, — «собственность, или сейзина», на такое-то право на землю. Действительно, почти над всеми землями и над многими людьми тяготело в то время множество всевозможных прав, разл!гчных по своей природе, но считавшихся каждое в своей области равно достойным уважения. Ни одно из этих прав не характеризовалось той строгой исключительностью, какая характерна для собственности римского типа. Держатель, который — обычно из поколения в поколение пашет и снимает урожай; его прямой сеньор, которому он платит ренту и который в определенных случаях мог отобрать участок; сеньор его сеньора — и так далее, во всю длину феодальной лестницы, находилось множество людей, каждый из которых мог с равным основанием заявить: «Мое поле!»
Но этого еще мало. Разветвления шли не только сверху вниз, но и горизонтально, и тут следует упомянуть также сельскую общину, которая, как только снят урожай, обычно вновь обретает право на всю свою территорию; упомянуть семью держателя, без согласия которой участок не может быть отчужден, а также семьи вышестояиигх сеньоров. Такое иерархизированное переплетение связей между человеком и землей восходило, без сомнения, к очень отдаленным временам. В большой части самой Romania не была ли квиритская собственность чем-либо иным, как не показным фасадом? Однако в феодальные времена эта система развилась несравненно сильнее. Подобное взаимопроникновение «сейзин» на одну и ту же вещь ничуть не смущало умы, малочувствительные к логике противоречия; это состояние права и общественного мнения, пожалуй, лучше всего определить заимствованной у социологии знаменитой формулой: юридическая «причастность».
3. Возрождение письменного права
В итальянских школах, как мы видели, изучение римского права никогда не прекращалось. Но в конце XI в., по свидетельству одного марсельского монаха, уже «толпы» теснятся на лекциях, читаемых целыми плеядами ученых, более многочисленными, чем прежде, и лучше организованными, особенно в Болонье, где блистал великий Ирнерий, «светоч права»{94}. Одновременно глубоким преобразованиям подвергается предмет обучения. Источники в подлинниках, которыми раньше часто пренебрегали ради посредственных кратких изложений, вновь занимают первое место; в частности «Дигесты», которые были почти забыты, открывают доступ к латинскому юридическому мышлению в его утонченнейших формах. Совершенно очевидны связи этого возрождения с другими интеллектуальными течениями эпохи. Кризис григорианской реформы вызвал во всех партиях подъем юридической, равно как и политической, мысли; не случайно составление больших канонических сборников, непосредственно этим кризисом вдохновленных, совпадает по времени с первыми трудами болонской школы. И как не увидеть в этих последних приметы возвращения к античности и интереса к логическому анализу, которые затем разовьются в новой литературе на латинском языке, как и в возрождающейся философии?
Примерно в то же время аналогичные потребности возникли и в остальных странах Европы. Там также знатные бароны начинали все больше прибегать к советам профессиональных юристов: примерно с 1096 г. среди влиятельных придворных графа Блуа мы встречаем особ, которые не без гордости именуют себя «знатоками законов»{95}. Свою образованность они, возможно, заимствовали из некоторых текстов античного права, еще сохранявшихся в монастырских библиотеках по ту сторону Альп. Но эти источники были слишком скудны, чтобы они сами по себе могли дать пищу для местного ренессанса. Импульс пришел из Италии. Деятельность болонской группы, развиваясь под влиянием более интенсивной, чем прежде, общественной жизни, получила распространение благодаря открытому для иностранцев обучению, трудам ученых, наконец, эмиграции некоторых ее светил. Владыка Итальянского королевства и Германии Фридрих Барбаросса во время итальянских походов принял в свою свиту ломбардских законоведов. Бывший болонский студент Плацентин вскоре после 1160 г. обосновался в Монпелье; другой болонец, Ваккарий, был за несколько лет до того приглашен в Кентербери. В течение XII в. римское право проникло во все школы. Его, например, около 1170 г. преподавали наряду с каноническим правом под сенью Сансского кафедрального собора{96}.
Все это, надо признать, вызывало и острое недовольство. Скрытый языческий дух глубоко светского римского права тревожил многих церковных деятелей. Ревнители монашеской добродетели обвиняли римское право в том, что оно отвращает монахов от молитвы. Теолога осуждали его за то, что оно мешает единственному виду размышлений, достойному духовной особы. Даже короли Франции и их советники, по крайней мере начиная с Филиппа-Августа, стали с подозрением относиться к аргументам, которыми оно щедро снабжало теоретиков императорской гегемонии. Все эти анафемы, однако, были бессильны затормозить движение и лишь свидетельствовали о его мощи.
В Южной Франции, где традиция обычного права сохранила явный римский отпечаток, усилиями юристов, которые отныне могли пользоваться подлинными текстами, «письменное» право было возведено в ранг некоего общего права, применявшегося там, где не было обычаев, явно ему противоречивших. Так же в Провансе, где с середины XII в. знание Кодекса Юстиниана казалось настолько важным даже для мирян, что irx снабдили кратким его изложением на народном языке. В других местах новые веяния сказались не так непосредственно. Даже там, где они встречали особенно благоприятную почву, обычаи предков еще слишком прочно держались в «памяти людей» и вдобавок были слишком тесно связаны со всей системой социальной структуры, глубоко отличавшейся от древнеримской, чтобы их могли поколебать одни только усилия нескольких докторов права. Разумеется, проявлявшееся отныне повсюду осуждение старинных способов доказательства, а именно судебного поединка, и разработка в публичном праве понятия оскорбления величества были кое-чем обязаны примерам из Corpus juris (свод права) и комментарию к нему. Подражанию античности в данном случае сильно способствовали также совсем иные влияния: отвращение церкви к кровопролитию, как и ко всяким действиям, которые представлялись попыткой «искушать Бога»; привлекательность, особенно для купцов, более удобных и рациональных юридических процедур; возрождение престижа монарха. Если в XII и XIII вв. некоторые законоведы с великим трудом старались передать на языке кодексов реальности своего времени, эти неуклюжие попытки никак не затрагивали основы человеческих отношений. Настоящее воздействие ученого права на право живое шло тогда иным, окольным, путем: оно приучало живое право к более ясному осознанию самого себя.
Действительно, имея дело с чисто традиционными предписаниями, которые до той поры с грехом пополам управляли обществом, люди, прошедшие школу римского права, неизбежно должны были стремиться устранить в них противоречия и неясности. Но такое состояние умов имеет свойство, подобно масляному пятну, распространяться вширь, и эти тенденции не замедлили выйти за пределы сравнительно узких кругов, непосредственно владевших превосходными орудиями интеллектуального анализа, полученными в наследство от античного учения. И тут они также развивались в согласии с рядом спонтанных течений. Преодолевавшая свое невежество цивилизация жаждала письменных формулировок. Более мощные коллективы, прежде всего городские группы, требовали фиксирования законов, туманный характер которых приводил к стольким злоупотреблениям. Перегруппировка социальных элементов в большие государства или в крупные княжества была благоприятна не только для возрождения законодательства, но также для распространения на обширные территории унифицирующей юриспруденции. Не без оснований автор «Трактата об английских законах» в продолжение цитированного нами пассажа противопоставлял обескураживающей пестроте местных обычаев гораздо более упорядоченную юридическую практику королевского суда. Характерно, что около 1200 г. в Капетингском королевстве при сохранении местных обычаев в самом узком смысле появляются обширные области применения единых обычаев: Франция вокруг Парижа, Нормандия, Шампань. Судя по всем этим признакам, шла подготовка к кристаллизации законов, которая к концу XII в. если и не завершилась, то во всяком случае началась.