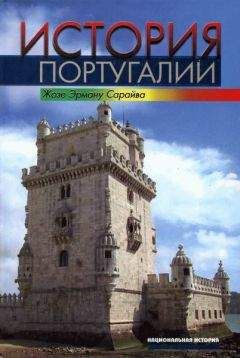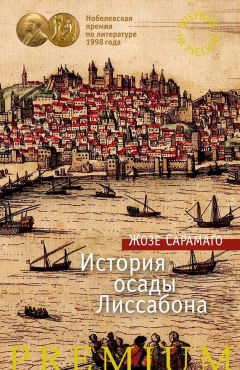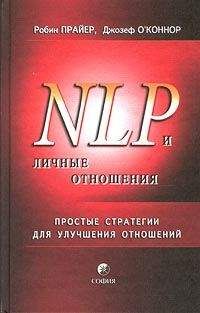Михаэль Вик - Закат над Кенигсбергом
Над головой в сторону городского центра все проносились еще с воем снаряды, только в ответ уже не стреляли. Мы продвигались по улице, изрытой воронками и усеянной кирпичами и обломками, мимо полуразрушенных домов, которым теперь предстояло еще и сгореть. Кончится ли когда-нибудь это безумие? Навсегда я запомнил картину, увиденную в самом начале нашего пути: монголоидного вида солдат гнал в руины под дулом автомата двух молодых женщин, и они — а что им еще оставалось? — беспрекословно подчинялись ему. Очень надеюсь, что он их потом отпустил, ведь изнасилованных женщин часто убивали, как я впоследствии узнал, когда мне пришлось хоронить трупы. На соседних улицах мы видели, как куда-то гонят немецких военнопленных.
К тому времени мы, вероятно, уже избавились от еврейских звезд, поскольку стало ясно, что исключений не делают ни для кого и что нам суждено разделить общую участь. Да я и сам не хотел находиться на особом положении, снова быть выделенным. Нет, для русских мы все без исключений были ненавистными немцами. Даже с угнанными в рабство русскими девушками обращались так, словно эти несчастные добровольно сотрудничали с немцами. Понять это было невозможно. Вообще, в поведении русских не прослеживалось сколько-нибудь определенной линии; казалось, они действовали без всякого плана.
В нашей группе было человек восемнадцать, и мы медленно тащились к пункту сбора. Каждый понимал, что русские солдаты, которые нам встречаются, были не из передовых частей — те сейчас продвинулись к центру города примерно на километр. А этих заботили трофеи: они отнимали часы и ручной багаж, прочесывали покинутые квартиры и подвалы в поисках вещей, которые стоило отослать домой. Повсюду отыскивая вино и шнапс, который жители непредусмотрительно не припрятали от них, солдаты напивались и переставали хоть сколько-нибудь сдерживать себя. И некому было остановить этот разгул. Некоторые пробовали освоить велосипеды и падали с них. Этих русских мобилизовали из таких мест, где не знали ни велосипедов, ни ватерклозетов. Зайдя в один из еще действовавших туалетов на втором этаже нашего дома, я обнаружил, что здесь справили большую нужду прямо на пол и воспользовались полотенцем вместо бумаги. Воняло ужасно. Большие потери, понесенные за несколько лет войны, вынудили русское командование призывать людей с окраин страны, и, заняв Кенигсберг, эти дети степей, наверное, впервые попали в современный город. Пьяные, воспламененные ненавистью к врагу, необузданные в своей победной эйфории, изумленные встречей с цивилизацией и видом атрибутов роскоши, они безудержно, бесконтрольно, не опасаясь наказания или иных последствий, предавались удовлетворению всех своих влечений — к сексу, власти, вещам, жратве, выпивке, убийству. О, какую силу ненависти они обнаружили! Ожесточению, с которым сами немцы атаковали и оборонялись, соответствовала теперешняя безжалостность их победителей.
Солдаты сразу обратили внимание на нашу группу и принялись разглядывать женщин и багаж. В конце концов они заинтересовались только двумя хорошими и прочными чемоданами. Угрожая заряженным пистолетом, русские отобрали чемоданы, открыли их, вытряхнули содержимое (это была преимущественно одежда и памятные вещи вроде фотоальбомов) и с пустыми чемоданами удалились. Им нужна была только тара, чтобы отправить домой более ценные трофеи. А нас все меньше волновала утрата личного имущества — избежать бы телесных повреждений. Женщины постарались выглядеть как можно старше и непривлекательней и все, включая Уте, походили на горбатых старушек.
Наконец мы дошли до сборного пункта, где собрались жители со всех концов Хуфена. Здесь уже было нечто похожее на дисциплину; офицеры распределяли людскую массу по палисадникам, и там мы, изрядно уставшие, смогли присесть. В присутствии старших офицеров, которым солдаты подчинялись, мы почувствовали себя в большей безопасности, и я обнаружил, как робко возвращается ощущение счастья — только от сознания, что теперь я не изгой и не нужно испытывать страх, вступая в беседу и задавая вопросы. Наконец-то никакой особой участи. Я наслаждался этим состоянием, хотя на лицах вокруг отражались тяжелые переживания, страх и беспомощность, да и мои мысли были неотступно заняты только что увиденным и услышанным ночью. А рассказывали невероятное. Об изнасилованных девочках одиннадцати и двенадцати лет. Об убитых при попытке вмешаться родителях. О простреленных щеках — у тех, кто не сразу отдавал свои вещи. Ничто не казалось невероятным или невообразимым. Ежеминутно можно было столкнуться с проявлением страшной жестокости, и это было, скорее, правилом, чем исключением. Все, что было известно о Тридцатилетней войне, о набегах татар, о разбойниках и прочих кошмарах, за одну ночь стало реальностью, и она оказалась куда хуже самого ужасного вымысла. Диккерт и Гроссман свидетельствуют:
Страшная участь ожидала попавших в руки русских — независимо от того, остались ли они по какой-то причине в своей квартире или были настигнуты, спасаясь бегством от большевиков. Многих мужчин русские убивали — прежде всего тех, кто вступался за своих жен и дочерей. И днем, и особенно ночью они забирали к себе и женщин, и юных девушек, и даже семидесятилетних старух, и насиловали несчастных одну за другой. В 54 населенных пунктах округа Рессель русские убили, по меньшей мере, 524 человек. Брошенные в погреб 26 крестьян были взорваны. В Гросс-Розене 28 человек загнали в сарай и подожгли его. Других та же участь постигла в церкви. В Кронау, округ Летцен, русские убили 52 человек, в их числе 18 французских военнопленных; в колонне беженцев из Лыка было убито под Никольсбергом 97 человек; под Шлагакругом, округ Инстербург, 32 ребенка, отделенных от колонны. Убили и каждого, кого сочли ополченцем.
Мы провели на сборном пункте долгие часы. Сходить в туалет и достать воды стало целой проблемой. Заботиться о пропитании надлежало самостоятельно. Я, кажется, уже давно не ел и не пил, и особенно мучительной была жажда. К трем часам дня начали формировать большие группы, и они по мере готовности уходили в сопровождении двух конвоиров. Никто не знал, куда. Наша группа двинулась в направлении Шарлоттенбурга и, выйдя из города, в сторону Земландии. По пути попался ручей, я сейчас же попросил у соседей посудину и, спустившись к ручью, наполнил ее водой, которую мама, отец, я сам и еще кто-то из соседей с жадностью выпили. Но передохнуть нам не дали, непрерывное «dawaj» конвойных гнало нас дальше.
Мы проходим мимо немецкой и русской разбитой военной техники, бронированных машин, противотанковых орудий и мертвых солдат. Конечно, большинство трупов уже убрано, но некоторые еще видны. В люке русского танка, подбитого, должны быть, из ручного гранатомета, застряли два танкиста, наперегонки пытавшиеся выбраться. Верхние части их тел свешиваются в разные стороны, а нижние, внутри танка, должно быть, сгорели. На дереве висит пожилой ополченец, а неподалеку, у следующего дерева, скорчился другой — застреленный. Не только вид хуторов указывает на тяжесть сражений — все кругом изрешечено стрельбой и изрыто воронками, деревья расщеплены и расколоты. Еще через несколько метров видим сидящих на обочине крестьянок — наверное, мать и дочь. Кровоточащие губы, застывший взгляд. Бежав из ада, которым стал их собственный дом, они надеялись, что будут в большей безопасности на открытом пространстве. У оживленной трассы, думали они, над ними сжалятся или побоятся насиловать их вновь и вновь. Зрелище, которое они являют собою, столь жалкое, что никому из нас его не забыть. Рядом с этими двумя фигурами разорванные или вздувшиеся тела погибших кажутся избавленными от страданий.
Короткая передышка на небольшом косогоре, и нас окружают очередные искатели трофеев, заинтересовавшиеся нашим багажом. Конвой пытается оттеснить их, но безуспешно. Отбирают вещь за вещью. Просто чудо, что нам до сих пор удалось сохранить свои скрипки. Впрочем, и прячем мы их надежно. Мамин альт совсем незаметен у нее под пальто. Но только мы трогаемся с места, как один из русских обнаруживает скрипку у отца за спиной. Солдат приближается и требует скрипку, но отец не отдает, и тогда солдат, вынув пистолет, приставляет его к отцовской щеке. Стоя рядом, я оказываюсь на линии выстрела, и, когда отец произносит: «Ну и стреляй», отклоняюсь назад, чтобы пуля в меня не угодила. Жестами я прошу солдата не стрелять. Он убирает пистолет и отходит — раздраженный, но и, кажется, проникшись некоторым уважением к нам.
Хотя по натуре отец вовсе не был героем и поступил так из крайнего отчаяния, мне его поведение понравилось. Скверное это дело — из-за выстрела остаться без коренных зубов. Нам уже было известно, что русские таким образом подавляли сопротивление тех, кого не собирались убивать. Снова можно было говорить о везении — этом удивительном и порою чуть не назойливом спутнике многих уцелевших.