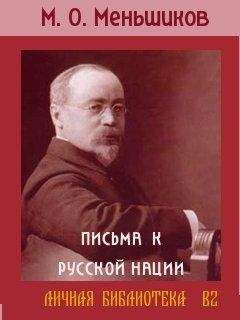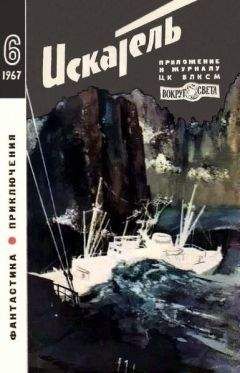Михаил Меньшиков - Выше свободы
В старинные времена, когда энергия народная сохранялась на месте, она накапливалась как электричество и питала огонь духа. Возможны были молниеносные мысли пророков и тихое озарение праведников, возможны были поэзия и религиозность, та пламенная религиозность, о которой остались одни сказания. Теперь ни поэзия, ни истинная религия "не по средствам" мужику. Теперь некогда сложиться былинам, не из чего создать героические мотивы. Даже природа - древние леса, озера, реки - прекрасный мир, населенный воплощенными духами, - сама природа уже становится не по средствам для мужика. Он всем сердцем рад был бы всю жизнь оставаться среди родных лесов, - но леса повырублены, леса сделались запретными. Озера, реки, болота недоступны; за все, за все нужно уплатить аренду. За водопой скоту в деревне кое-где уже платят большие деньги. Мужик высшим счастьем считал бы жить среди родной природы, но голод гонит его Бог весть куда, на фабрики, в городские подвалы, в Сибирь.
Такова поэзия быта. Если серьезно говорить о религии, - невозможна ли она среди голой нищеты? Насколько богатство отвращает от Бога ("Легче верблюду" и проч.), насколько бедность влечет к Нему, настолько нищета вновь и уже решительно отталкивает, разрывает навсегда таинственный и нежный путь, идущий от живого сердца к Вечности. Нищета повергает в уныние - о, недаром уныние считается смертным грехом! Нищета повергает в исступленное отчаяние, когда каменеет совесть, когда не хочется, просто противно думать о какой-то справедливости, о любви вечной. Вера в благо требует, чтобы благо ощутительно присутствовало. Не надо, чтобы на глазах человека слишком долго топталось счастье. Крушение всех заветных надежд, несчастье чрезмерное есть смерть религии. Даже великая душа Иова вознегодовала: "Опротивело мне жить! Отступи от меня! - говорит он Создателю. - Объяви мне, за что Ты со мною борешься?.. Бог ниспроверг меня и обложил своею сетью. Вот я кричу: обида! - и никто не слушает. Вопию, и нет суда! Иду вперед - и нет Его, назад - и не нахожу Его".
Нужно великую душу Иова - человека, которого благочестие было слишком долго воспитываемо в счастье, чтобы ропот его не перешел в богохульство. Разве у себежского мужика есть "семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов" и пр.? У себежского мужика многовековое, непрерывное разорение, и можно ли требовать от него истинной веры? По стародавнему обычаю он все тянется к своей убогой церкви, крестится иконам, слушает "Христос воскрес!" Но тут же за порогом храма его охватывает щемящий ужас. Куда идти? Домой - скотина ревет от голода. И вот вместо того, чтобы идти по хатам и нести с собою светлую атмосферу восторгов: Христос воскрес! - вместо сияния, поцелуев, молитвенного блаженства мужик понуро несет в кабак шкуру зарезанной кормилицы-коровы, чтобы хоть ненадолго забыть свой ужас. Нет, господа, истинная вера слишком тонкая роскошь духа. Она доступна сытым беднякам, но голодным недоступна. Падая ниже возможного уровня своего достатка, человек теряет высочайшую свою опору в мире - уверенность в Отце.
Вы спросите: зачем я пишу эти грустные строки? Да почти без всякой цели. Просто хочется переложить часть своей тревоги на вас, читатель. В эти покаянные дни, может быть, это кстати. В смутную пору, когда у государства столько дела, когда того и гляди нас втянут в войну на западе, на юге, на востоке, мне кажется, не лишне заглянуть в глухую деревню. Именно там в решительную минуту можно найти указание, что делать. По громадности все растущего государства все труднее ориентироваться в его истинных интересах. Сознание то и дело отвлекается на тысячи случайных задач. Их бесчисленность и противоположность слагаются в своего рода анархию, если не иметь одного повелительного взгляда на вещи, если не иметь объединяющего сознания главной нужды. Наша главная национальная невзгода (после тех, о которых здесь я не говорю) - это нищета простонародья. Надо неустанно всматриваться в голодную деревню, надо отфотографировать ее в своей памяти. Какие бы предприятия ни казались неотложными, всегда полезно взглянуть на мужика. Пока крестьянство не поднято на уровень, где становится возможным какой-нибудь прогресс, тщетны будут самые возвышенные государственные планы. Если тучная нива дает зерну жизнь и вознаграждает сторицей, то нива тощая губит самые крупные зерна и самое высокое искусство сеятеля сводит в ничто.
1903
В ДЕРЕВНЕ
Через два года стукнет пятьдесят лет памятному событию в русской жизни. Вдумчивые люди хорошо сделают, если постараются еще раз пересмотреть весь доступный материал этого переворота, чтобы понять ясно, что же такое тогда случилось. О крепостном праве не было двух мнений сто лет назад: почти всем, за ничтожными исключениями, крепостной быт казался естественным и единственно возможным. О крепостном праве не было двух мнений пятьдесят лет назад: почти всем, за немногими исключениями, крепостной быт казался противоестественным и невозможным. Любопытно было бы установить сколько-нибудь определенный взгляд на крепостное право теперь, через полстолетия после реформы. Мне кажется, оценивать события следует по их последствиям. Ни наши отцы, ни наши деды не могли видеть результатов отмены крепостного права и не могли судить о ней правильно.
Есть суд истории, суд потомства, и мне кажется, для 1861 года время этого суда наступило. Всем понятно, что прежние крепостные отношения абсолютно невозвратимы. Они возможны разве только после нового переселения народов, нового захвата России какой-нибудь воинственной расой и т.п. Если что угрожает России ближайшим внутренним рабством, то это не крепостное право, а социализм, но и его угрозы, в качестве пока бумажных, крайне проблематичны. О крепостных порядках мы можем судить, стало быть, sine ira et studio19. Я лично, родившись за два года до великого манифеста, не помню крепостного права и не связан с ним ни сожалением потери, ни чувством мести.
Почти полвека, с раннего детства, я наблюдаю крушение крепостной культуры. Процесс этот наполняет собою русскую историю последнего столетия. Вернуться к нему меня побуждают яркие впечатления последних дней. Эти строки я пишу из глубокой деревенской глуши. За последнюю неделю мне пришлось объездить несколько деревень, погостов, заглохших дворянских усадеб в местности, которую я знал когда-то наизусть. Подавленный грустными воспоминаниями, я тщетно ищу в настоящем следов прошлого. Когда-то тут были видны раны, но и те зарубцевались. Природа - величавая и прекрасная природа здешних мест - точно похоронила крепостную эпоху и преспокойно себе сияет красою вечною. Те же необозримые горизонты и сладкий воздух полей, те же горы и синие леса, те же бесчисленные озера, которых сеть сливается временами в почти финляндский шхерный пейзаж. Те же серые, крытые соломой, подслеповатые деревеньки, значительно разросшиеся, но, как и прежде, невыразимо-грязные. Тот же ковер полей с золотистой рожью, льном, гречихой и вьющимися пчелами над ними. Та же рваная нищета - и еще более угрюмое пьянство.
О кое-каких переменах скажу ниже, теперь же позволю себе высказать основное мнение мое о крепостном праве. Оно - как право - уничтожено в 1861 году, но как быт развалилось гораздо раньше. То, что у нас называют эпохой крепостного права и что справедливо возмущало всех гуманистов, было уже не определенным общественным строем, а безобразными его развалинами. Когда приблизительно сложился классический крепостной быт и до каких годов он держался - это предмет очень ответственного исследования, за которое я не берусь. Мне кажется, в эпоху Болотова был устойчивый крепостной быт, в эпоху Радищева он уже пошатнулся. Крепости его уже поколебленной хватило на то, чтобы дать России еще одну великую войну - войну 1812 года. Но это была лебединая песня нашего феодализма. Далее пошло "освободительное движение" хуже, чем в проповеди, в самом процессе разрушающегося быта. Освободительное движение в России началось, строго говоря, с тех пор, как были раскрепощены дворяне. "Вольность" дворянства не могла не распространиться на другие сословия страны, считающей себя независимой. Объявленное вольным Петром III и Екатериной, дворянство утратило свой древний государственный смысл, и отношения к нему крестьянства сделались в корне бессмысленными. Вышло то же, как если бы офицеры были освобождены от службы и в то же время сохранено было повиновение им солдат. Нравственное оправдание крепостного быта именно тогда исчезло. Поместья перешли в частную собственность владельцев, и тем самым в крепостной быт была введена анархия. Стало непонятным, почему крестьяне должны содержать барина, даже такого, который не служит и ничего не делает. А бар последнего типа, принявших вольность как право ничего не делать, оказалось слишком много, может быть, большинство. Тогда именно началось крушение крепостного быта. Дворяне стали терять связь с землей как источником государственного их содержания. Крестьяне стали терять уважение к дворянам и любовь к ним. Еще за полвека (может быть, за век) до отмены крепостного права дворяне начали бросать поместья, то есть становиться чуждыми крестьянам. Они разъезжались по столицам, по заграницам, по крупным центрам, тянулись ко двору, на городскую службу. Завоевание громадных окраин потребовало громадного развития чиновничества. Дворянство откачивалось и отсасывалось службой из центра на окраины. Все сколько-нибудь способное уходило вдаль и пропадало для родных усадеб большею частью навсегда. Оставались в деревнях дворянские неудачники, недоросли, которые уже тогда роняли звание дворянина в глазах народных. Эти неудачники плодились и множились, делили большие поместья на средние, средние - на клочки и кусочки, вместе с тем беднели и дичали в невероятной степени. Еще до отмены крепостного права большинство дворянства разорилось и потеряло дворянскую культуру. Тургеневские "дворянские гнезда", дававшие мечтательных барышень и сорокалетних идеалистов, были и тогда уже в редкость. Большая часть дворянства задолго до 61-го года опустилась, промоталась, одичала, позаложила крестьянские души в опеку, выродилась в гоголевские и щедринские типы. Что было с дворянством в Польше, то и у нас. И у нас сложилась мелкая шляхта, дворянская чернь, которая уже тогда опорочила и обессмыслила крепостное право и сделала отмену его необходимой. Та жестокость, доходящая до глупости, которая превратила патриархальную дисциплину в рабство, встречалась, кончено, и на верхах дворянства, но главным образом свирепствовала - в низах его. Благородная культура, примеры которой встречаем в хрониках рода Аксаковых, Бакуниных и пр., завязывалась во многих местах, но не успела пустить в России глубоких корней. Эту культуру засасывала наша дичь и глушь. Как роскошные луга и огороды зарастают бурьяном, так дворянскую культуру (в хорошем смысле этого слова) постепенно вытеснял цинизм русской народной бедности и темноты.