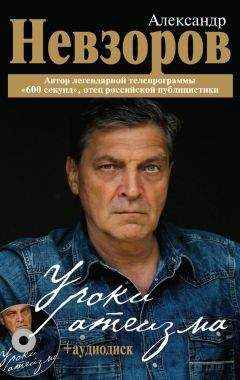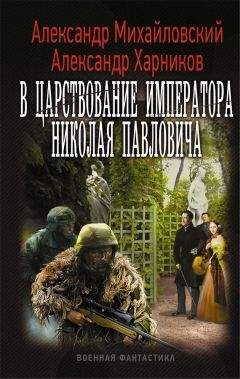Александр Панарин - Стратегическая нестабильность ХХI века
Здесь особо надо подчеркнуть подразумеваемые, но не высказываемые вслух асимметрии. Для того чтобы либеральные партии собственников могли побеждать на выборах, требуется одновременно, чтобы класс собственнического меньшинства выступал более или менее монолитно, то есть с классовым сознанием, а представители социального большинства, напротив, составили "стохастическую массу", ориентированную не изнутри, собственным опытом и интересами, а управляемую извне, на основе техник манипуляции. Философской основой этих манипулятивных техник является конвенционализм, столь же необходимо входящий в арсенал либеральной демократии, как и номиналистическое отрицание классовых, народных и национальных общностей. Демократия— это система, которая подменяет понятие объективной истины понятием согласованного мнения, конвенции.
Конвенциальное мнение большинства является высшей, хотя и временной — до образования следующей конвенции, — инстанцией, которую нельзя оспаривать от имени объективных истин. Это в науке возможны ситуации, когда один человек (например, Коперник) утверждает одно, большинство — нечто совсем другое, но объективная истина остается за этим одним.
Если демократию мы станем спрашивать по строгому счету объективных истин, тогда легитимность воли избирательного большинства повиснет в воздухе, а вместе с ним — и легитимность самой демократии. Это не означает, что демократия представляет собой безошибочную систему; скорее это система, которая имеет шансы исправлять возможные ошибки электорального большинства на следующих выборах. У демократии, следовательно, есть два оппонента, судьба которых решается именно сегодня.
Первый оппонент — вера в историю, в то, что она имеет единый высший смысл, касающийся конечных судеб человечества. Этот смысл открывается сознанием, воспитанным в древней монотеистической традиции и потому приученным за калейдоскопом внешних событий просматривать скрытый контекст, связанный с Божественной волей, с деятельностью абсолютного духа (Гегель) или — с объективными законами истории (Маркс). Почему такой тип сознания несовместим с современным западным пониманием демократии? Потому что основной презумпцией этой демократии является полное равенство соревнующихся партий перед лицом истории; история здесь понимается как «всеядная», не имеющая партийных любимцев, которым она всецело доверяет представительствовать себя и выражать ее «волю» или ее «законы». Иными словами, демократические партии соревнуются между собой не перед лицом Истории (с большой буквы), а перед лицом грешного избирателя, который меняет свои мнения, которого можно убеждать и переубеждать. Если бы в демократическом сознании была актуализирована идея Истории, оно сразу же перестало бы быть плюралистическо-демократическим.
В самом деле, представим себе, что среди множества соревнующихся партий есть одна авангардная партия, вооруженная высшим историческим знанием, то есть лучше других знающая, куда движется мировая история и каков ее смысл. Как мы понимаем, такая партия лучше знает интересы народа, чем сам народ, не посвященный в планы Большой истории. Следовательно, эта партия обладает особой легитимностью, отличающейся от демократически понимаемой. Легитимность ее притязаний на власть определяется не количеством голосов, которые она способна получить на выборах, а степенью проникновений в высшие законы и тайны истории. Она отвечает за народ, как «знающие» взрослые отвечают за «незнающих» детей, и потому имеет право навязывать свою волю профанному большинству.
Ясно, что здесь мы представили логику авангардной партии большевистского типа. Именно на основе такой логики большевики, получившие на выборах в Учредительное собрание меньшинство голосов (24,5 %), обосновали свое право на захват власти. Этот травмирующий исторический факт — большевистский переворот — послужил поворотным пунктом в развитии западного плюралистическо-демократического сознания: отныне оно стало сознательно агностическим сознанием, не посягающим на знание смысла истории. С тех пор либералы преследуют малейшие поползновения к поиску смысла Истории и с подозрением относятся ко всем видам исторического воодушевления. Их излюбленным социальным типом стал обыватель, целиком погруженный в повседневность и не помышляющий о высших исторических смыслах. Именно обыватель относится к политике как к товару: он выбирает на рынке партийных программ и предвыборных обещаний наиболее приятные ему лично, не заботясь о том, что они могут значить по большому социально-историческому счету.
Но сегодня, когда авангардные партии, непосредственно апеллирующие к Большой истории и ее высшим закономерностям, сошли со сцены в результате либерального переворота, обнаружилось, что у демократии есть и другой оппонент, временно выпавший из виду, — народ как культурно-историческая целостность. Оказалось, что он обладает почти всеми «авангардными» грехами: коллективной идентичностью, исключающей последовательный индивидуализм и плюрализм (свободные перемещения индивидов вдоль социально-политического спектра); коллективной верой (или верованиями), мало совместимыми с плюралистической всеядностью демократии; коллективной исторической памятью, создающей основы внепрагматических выборов и предпочтений.
Новейшая теоретическая рефлексия западной демократии достигла уровня, с которого открывается тотальная несовместимость народа и плюралистической демократии, народа и гражданского общества, народа и прав человека. Эту рефлексию, в частности, представляют два современных законодателя западной либеральной мысли: знаменитый создатель этики либеральной справедливости Дж. Ролз и "последний классик" франкфуртской школы Ю. Хабермас. Их работы закладывают основы новейшей либеральной стратегии на ХХI век, и стратегия эта не оставляет такому историческому образованию, как народ, ровно никаких шансов.
В своей новой книге "Вовлечение другого. Очерки политической теории" Ю. Хабермас сталкивает два понятия: "нация граждан" и "нация соотечественников". Под "нацией соотечественников", собственно, и скрывается знакомый и привычный нам исторический персонаж — народ. Одна из известных попыток примирения демократии с коллективной национальной идентичностью принадлежит деятелям консервативной революции в Германии. Глядя на анемичную и нежизнеспособную Веймарскую республику, которой западные победители категорически запретили мыслить категориями национальной идентичности (точь-в-точь как сегодня западные победители запрещают это России), К. Шмидт предрекал ей социальную дестабилизацию и историческое поражение. Шмидт исходил из того факта, что легче договариваются между собой, вступают в гражданскую кооперацию и находят совместные решения люди, связанные между собой чем-то большим, чем временный интерес «рыночного» типа. По-настоящему договариваются лишь те, у кого есть общий базовый ценностный язык, поле совместных стереотипов и интуиций. Словом, те, кто оказываются «договорившимися» еще до формальных договоров. Только в этом случае мы имеем шанс бесконечное разнообразие ситуаций свести к алгоритму совместной, коллективной воли. "Априорное предпонимание гарантировано субстанциальной однородностью соотечественников, которые в качестве особой нации отличаются от других наций" — так резюмирует Хабермас позицию Шмидта.[18]
Мишенью шмидтовской критики является либеральное понимание индивида как "разнузданной самости", эгоистическая рассудочность которой исключает устойчивость любых коллективных общностей, заложенных конъюнктурными союзами "на время и на определенных условиях". "Формирование политического происходит, согласно данному (шмидтовскому. — А. П.) описанию, исключительно в виде переговоров о том или ином modus vivendi, при том что возможность взаимопонимания с этической или моральной точки зрения отсутствует".[19]
То, что Хабермас в данном случае рассматривает как постулат определенной идеологической доктрины (ему враждебной), на самом деле подтверждается экспериментальными данными когнитивной психологии и исследованиями культурной антропологии. Человеку свойственно по самой его социальной природе говорить не только «я», но и «мы», без умения проводить и отстаивать дихотомию "мы— они" личность теряет устойчивость, становясь неврастеничной. Но и на коллективном уровне минимально необходимая устойчивость обеспечивается лишь тогда, когда наряду с умышленно принимаемыми в расчет связями и отношениями людей объединяют некие фоновые, не осознаваемые факторы близости, связанные с их коллективной культурной памятью. Как признается П. Бурдье, хотя и сам причастный к постмодернистскому развенчанию метафизических коллективных смыслов, "соглашения заключаются тем легче… и тем полнее полагаются на «добровольность», чем генеалогически ближе участвующие в них группы".[20]