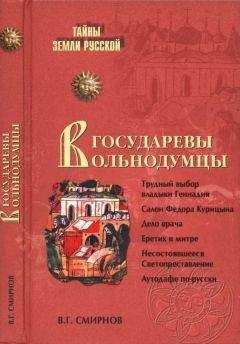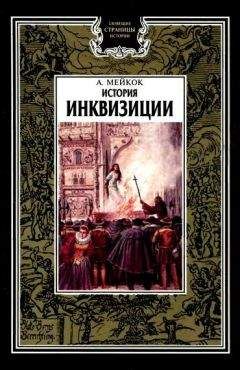Пирс Брендон - Упадок и разрушение Британской империи 1781-1997
Папино разжигал французские республиканские настроения, продемонстрированные в приходе Контрекер, когда верующие вышли из церкви в виде протеста против приказа епископа Монреальского отпраздновать коронацию королевы Виктории. Лидер этой акции, торговец и политический радикал, провозгласил: «Больно петь «Те Деум» в честь королевы — проклятой шлюхи с раздвинутыми ногами»[495].
Если паства вела себя воинственно, то патриоты следовали за Папино так покорно, что были известны под прозванием «баранов»[496].
Папино возглавлял кампанию франко-канадцев за самоопределение. Он шел от все более яростных и ожесточенных политических споров в Собрании к экономическому бойкоту (в стиле янки) британских товаров в сельской местности. Его приверженцы выступали против правительства, как называя себя «сынами свободы». Патриоты использовали знамена с американскими символами — звездами и орлами, а также с канадскими кленовыми листьями и сосновыми шишками. Был и французский триколор, и красные флаги со словом «Libert» («Свобода»).
Методы принуждения, например, увольнение губернатором должностных лиц и несанкционированный захват доходов, вызвали протесты и требования объявления независимости. Последовали сильные беспорядки, которые закончились вооруженным восстанием. Его вскоре подавили, хотя самому Папино удалось бежать в США, переодевшись крестьянином. История навесила на него клеймо «хвастуна в собрании и труса в поле»[497].
Ссыльные франко-канадцы продолжали борьбу, вызывая еще больше конфликтов и усиление репрессий к северу от границы. Там «кровожадные» британские войска, как признал один из их офицеров в 1838 г., «сурово наказывали восставших, сжигая и грабя деревни»[498].
Словно для демонстрации необходимости примирения по всей Британской Северной Америке, французские патриоты взялись за винтовки как раз в тот самый момент, когда в ультралояльной Верхней Канаде произошла миниатюрная революция. Она тоже была вызвана желанием большей демократии, поскольку губернатор не только эффективно правил от имени монарха, но и царствовал за счет выборного Собрания. Поэтому, как заметил писатель Голдвин Смит, канадские правительственные институты, теоретически смоделированные по типу британских, были «подобны китайской имитации парохода, которые точно повторяли оригинал во всем, кроме пара»[499].
Большинство канадцев хотели реформ. Но экстремисты искали, словно Грааль, самоуправление, «свободу от вредного и губительного доминирования метрополии». Эта фраза, которую в Лондоне произнес радикальный член Парламента Джозеф Юм, привела в негодование лоялистов объединенной империи, будучи опубликованной в Торонто. Но чтобы поднять толпу, она использовалась популистским лидером провинции Уильямом Лайоном Макензи, который говорил: «Наши беды и беды старых тринадцати колоний по существу одни и те же»[500]. Он стремился стать «канадским О'Коннелом».
Этот умный и проницательный идеалист, который из журналиста превратился в политика, стал мэром Торонто. Уже в этой роли Макензи придумал герб и девиз города («Предприимчивость, ум и целостность»). Он был и скандалистом, который с дикими глазами бросался в бой. Рост его едва ли дотягивал до пяти футов и выглядел он «очень похожим на бабуина».
Макензи казался слишком неустойчивым, странноватым, его поведение отличалось сумасбродством. К тому же, он был слишком фанатичным, чтобы вызывать доверие и внушать уверенность. Говорили, что «ему можно доверить жизнь, но не тайну»[501]. По словам губернатора Верхней Канады, Макензи «лгал каждой клеткой своего тела»[502].
То, что такой подстрекатель и смутьян смог собрать на Юнг-стрит в Торонто сотни бунтовщиков, вооруженных охотничьими ружьями, пиками и дубинами, говорило о размерах недовольства в провинции. Полиция смогла разогнать их чуть ли не одним выстрелом картечью. Это показало, что сила Макензи представляла собой лишь чуть больше, чем просто толпу. Сам он быстро понесся к границе.
В любом случае, этот провалившийся переворот британцев, который добавился к неудавшейся революции французов, вызвал серьезное беспокойство в Лондоне. Лорд Бругхэм предполагал: все происходящее стоило вялому и апатичному министру по делам колоний лорду Гленалгу многих бессонных дней[503].
Правительство лорда Мельбурна явно считало, что должно действовать, не допуская, чтобы Канада пошла путем США. Как писал Мельбурн, дело было не в том, что отделение колонии от метрополии принесет материальные потери. Но его министерство едва ли переживет столь серьезный удар по чести Британии[504].
Премьер-министр назначил лорда Дарема (доставлявшего проблемы соперника) генерал-губернатором Верхней и Нижней Канады. Дарем получил такую полную власть, что его называли диктатором[505] и Великим Моголом[506].
Другими прозвищами губернатора стали «Радикальный Джек» и министр-диссидент[507]. Он оказался более левым, чем его коллеги, хотя не заходил так далеко, чтобы поддерживать чартистов. Однако ему удалось одновременно быть политическим демократом и социальным автократом.
Дарем выступал за эгалитарную реформу и одновременно относился ко всем людям так, словно они стояли ниже его. Когда-то он был самым богатым простолюдином в Англии, считая, что любой может «протянуть на 40 000 фунтов стерлингов в год»[508]. Этот человек сочетал в себе надменность и самодовольство при унаследованном богатстве. С приобретением титула появилась наглость. Он нападал на официантов и оскорблял министров с одинаковой яростью. Однажды доведенный до слез Грей запротестовал, что он «лучше будет работать в угольной шахте, чем подвергаться таким атакам». На что чернобровый Дарем пробормотал: «Может быть и хуже»[509].
Мельбурн сказал, что не может быть мира, спокойствия и гармонии в том кабинете, к которому Дарем имеет отношение. Но, хотя новый канадский губернатор был тщеславным, властным и жестоким, он мог стать и умным, и проницательным, и очаровательным, и великодушным. Этот человек взял огромную свиту в Квебек и поспешно включил туда несколько печально известных распутников. (Один из них, Эдвард Гиббон Уэйкфилд, поборник колониальной эмиграции, сидел в тюрьме за похищение человека).
Дарем завоевал преданность всех участников своей свиты. Он прибыл с торжественностью и великолепием. Потребовалось несколько дней, чтобы разгрузить его багаж, который включал множество музыкальных инструментов. Как язвительно заметил Сидни Смит, их взяли для того, чтобы позволить Дарему заигрывать с канадцами[510].
Генерал-губернатор проследовал по Квебеку в настоящем генеральском мундире, украшенном серебряными галунами. Ехал он на белом боевом коне с длинным хвостом. Но, несмотря на последующие демонстрации гордости, соответствующие этому помпезному прибытию (Дарем выгнал всех других постояльцев из гостиницы «Кингстон», а до того не позволил взять на свой корабль даже почту), он добился поразительной популярности в двух провинциях Канады. Более того, его отчет стал Великой Хартией Вольностей для этого британского владения[511].
Но даже при этом служба Дарема генерал-губернатором оказалась провальной. Он продержался всего шесть месяцев, после чего дало результат характерное сочетание либерализма и автократии.
Губернатор хотел добиться примирения, поэтому объявил амнистию для всех восставших. Однако он намеревался подчеркнуть вину лидеров, которых присяжные скорее оправдали бы, а не приговорили к смертной казни, поэтому сослал их на Бермуды. Мельбурн отказался утвердить это справедливое, но незаконное решение, после чего Дарем тут же подал в отставку. До отъезда из Канады он издал прокламацию, фактически обвинив Министерство в предательстве. Губернатор сказал, что разбиты его надежды обеспечить объединенный народ свободной и ответственной властью, чтобы люди могли наслаждаться жизнью в большей степени[512].
Дарем покинул Квебек до принятия его заявления об отставке. Он отбыл еще более пышно и церемонно, чем прибыл. В дикий холод, под небом, с которого вот-вот должен был пойти первый настоящий зимний снег, экс-губернатор медленно спускался в открытой карете с шато Сен-Луи к королевской верфи. Зрители собрались на грязных узких улочках, вдоль которых выстроились стражники. Люди прильнули к окнам высоких каменных домов. Они наблюдали за происходящим в мрачном молчании, иногда прерываемым приветственными криками. Когда суда для перевозки лесоматериалов тянули на буксире фрегат Дарема «Инкон-стант» вниз по реке Святого Лаврентия, из цитадели выстрелила пушка, дав прощальный салют. В сумерках, когда буксирный трос наконец-то обрубили, эхом отдавались звуки «Добрых старых времен». А сам Дарем, как заметил один свидетель, страдал и от язвы, которая закончилась его преждевременной смертью, и от горечи осознания того, что он возвращается в Англию униженным и разжалованным[513].