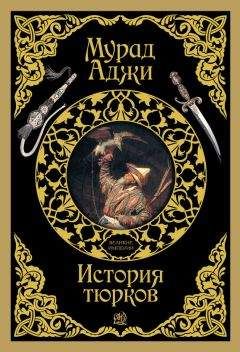Михаил Пселл - Хронография
CXLVIII. Так говорил самодержец, и слезы потоком текли из его вспухших глаз. На первый вопрос обвиняемый не обратил никакого внимания, будто вовсе его и не слышал, а после второго, где речь шла о его желаниях и любви, разыграл дивную сцену: расцеловал руки самодержца, положил голову ему на колени и сказал: «Усади меня на царский трон, увенчай жемчужной короной, пожалуй мне и ожерелье (он показал на украшение вокруг его шеи) и имя мое включи в царские славословия. Этого я и раньше хотел, и сейчас таково самое мое большое желание».
CXLIX. От подобных слов самодержец пришел в восторг и просто засиял от радости, ибо как раз и желал освободить своего любимца от ответственности за нелепое покушение под тем предлогом, что столь простодушный человек не может не быть свободен от наказаний и подозрений. «Я надену на твою голову корону, – сказал он, – облачу тебя в пурпурное платье, только верни мне свою душу, уйми бурю, рассей тьму своих глаз, взгляни на меня обычным взглядом и дай насладиться сладостным светом твоих очей». Тут уж развеселились даже люди серьезные, и судьи, не задав ни единого вопроса, рассмеялись и разошлись в середине комедии. А царь, будто он сам был уличен, но выиграл процесс в суде, принес богу благодарственные жертвы, восславил его за спасение и устроил по такому случаю пиршество роскошней обычного; хозяином и распорядителем был на нем сам самодержец, а почетным гостем – комедиант и злоумышленник.
CL. Так как царица Феодора и его сестра Евпрепия, подобно богиням у Поэта, «возмущенно роптали»[92], выражали недовольство и бранили царя за простодушие, Константин, стыдясь их, все-таки приговорил преступника к изгнанию, но не выслал его в какое-нибудь отдаленное место, а определил для проживания один из островов перед самим городом, причем велел ему там мыться в банях[93] и вкушать все радости. Не прошло, однако, и десяти дней, как царь торжественно вызвал его назад и даровал ему еще большую свободу[94] и милость[95]. Это повествование умолчало о многих еще больших нелепостях, о которых автору было бы стыдно писать, а читателю тягостно узнавать. Поскольку мой рассказ до конца не доведен и для своего завершения нуждается в добавлениях, я приведу здесь другую историю, по смыслу необходимую для повествования, а затем вернусь назад и доскажу то, чего не успел.
CLI. Царица Зоя была слишком стара для общения с мужем, а в царе бушевали страсти, и, так как его севаста[96] уже умерла, он, разглагольствуя о любви, парил среди фантазий и странных видений. От природы помешанный на любовных делах, он не умел удовлетворять страсть простым общением, но постоянно приходил в волнение при первых утехах ложа и потому полюбил некую девицу, которая, как я уже говорил раньше, жила у нас как заложница из Алании. Царство это – не очень-то важное и значительное и постоянно предоставляет Ромейской державе залоги верности[97]. Девица, дочь тамошнего царя, красотой не отличалась, заботами о себе не была избалована и украшена только двумя прелестями: белоснежной кожей и прекрасными лучистыми глазами. Тем не менее царь сразу пленился ею, забыл думать о других своих пристрастиях, у нее одной проводил время и пылал к ней любовью.
CLII. Пока царица Зоя была жива, он не очень-то проявлял свои чувства, предпочитал таиться и скрывать их, но когда Зоя умерла[98], он раздул пламя любви, распалил страсть и разве что не соорудил брачный чертог и не ввел туда возлюбленную, как жену. Преображение этой женщины было мгновенным и удивительным: ее голову увенчало невиданное украшение, шея засверкала золотом, руки обвили змейки золотых браслетов, на ушах повисли тяжелые жемчужины и золотая цепь с жемчугами украсила и расцветила ее пояс. И была она настоящим Протеем, меняющим свой облик.
CLIII. Хотел Константин и увенчать ее царской короной, но опасался двух вещей: закона, ограничивающего число браков, и царицы Феодоры, которая не стала бы терпеть такого бремени и не согласилась бы одновременно быть и царицей, и подданной. Поэтому-то он и не сподобил возлюбленную царских отличий, однако удостоил звания, нарек севастой, определил ей царскую стражу, распахнул настежь двери ее желаний и излил на нее текущие золотом реки, потоки изобилия и целые моря роскоши. И снова все расточалось и проматывалось: часть растрачивалась в стенах города, часть отправлялась к варварам, и впервые тогда аланская земля наводнилась богатствами из нашего Рима, ибо одни за другим непрерывно приходили и уходили груженые суда, увозя ценности, коими издавна вызывало к себе зависть Ромейское царство.
CLIV. Ромейский патриот и сын отечества, я и тогда лил слезы, видя, как пускаются на ветер все наши богатства: не меньше терзаюсь и теперь и все еще стыжусь за своего господина и царя. Ведь дважды, а то и трижды в год, когда к юной севасте приезжали из Алании слуги ее отца, самодержец публично показывая им ее, провозглашал ее своей супругой, именовал царицей, при этом и сам преподносил им подарки и своей прекрасной жене велел их одаривать.
CLV. Так вот тот самый лицедей, рассказ о котором я оборвал немного выше, и прежде был влюблен, когда не пользовался успехом (потому и учинил этот заговор) и когда им пользовался, а вернувшись из ссылки, возгорелся к ней еще большей любовью[99]. Я хорошо это знал, но полагал, что самодержец ни о чем не догадывается: я пребывал в сомнениях, но сам царь все поставил на свои места. Как-то раз я сопровождал самодержца, когда его несли к аланке, а в свите шел и этот влюбленный. Что касается девушки, то она тогда находилась во внутренних дворцовых покоях и стояла у решетчатой перегородки. Не успел царь обнять возлюбленную, как ему в голову пришла какая-то мысль, он был занят ею, а влюбленный бросал взгляды на девушку; глядя на нее, он слегка улыбался и всячески проявлял свою страсть. Самодержец, слегка подтолкнув меня в бок, сказал: «Смотри, негодяй все еще влюблен, случившееся не послужило ему уроком». При этих словах мое лицо сразу покрылось краской, царь же прошел вперед, а тот с еще большим бесстыдством уставился на девушку. Но все его потуги оказались тщетными: самодержец, как я расскажу дальше, умер, севаста снова перешла на положение заложницы, а его страсть так и кончилась пустыми мечтаниями.
CLVI. Как и обычно в этом сочинении, я многое в своем рассказе опустил и потому снова должен вернуться к Константину. Но прежде я обращусь к Зое и, завершив повествование сообщением о смерти царицы, примусь за новый рассказ. Я толком не знаю, какой была она в юности, о том же, что мне известно с чужих слов, уже поведал выше.
Природные свойства императрицы Зои
CLVII. К старости стала Зоя уже нетверда рассудком, но не то чтобы лишилась разума или сошла с ума, а просто потеряла всякое представление о делах и была совершенно испорчена царским безвкусием. Если ее и украшали какие-то душевные добродетели, то ее нрав не сохранил их в чистоте, но, выказывая их больше, чем следует, придал им более безвкусия, нежели достоинства. Не стану говорить о ее благочестии, не хочу здесь обвинять царицу за его избыток, этой добродетелью ее никто не мог превзойти, она жила одним богом, и все происходящее возводила к его воле, за что я уже выше воздал ей должную похвалу[100]. В остальном же была она то мягкой и расслабленной, то жесткой и строгой, причем оба состояния сочетались в одном человеке и сменяли друг друга в мгновенье ока и без всякой причины. Если кто-нибудь при ее неожиданном появлении бросался на землю, притворяясь будто, как ударом молнии, поражен ее видом (такую комедию перед ней разыгрывали многие), то она сразу одаривала его золотой повязкой, но если он при этом начинал пространно выражать свою благодарность, тут же приказывала заковать его в железные цепи. Зная, что ее отец не скупился на наказания, лишая осужденных глаз, она подвергала такой каре за малейший проступок, и если бы не вмешивался самодержец, многим людям вырвали бы глаза без всякого повода.
CLVIII. Она была щедрейшей из всех женщин, но меры в сей добродетели не знала и потому все сразу и погубила; одной рукой она еще отсчитывала деньги, а другую уже простирала к Всевышнему, чтобы снискать милость к одариваемому. Царица приходила в восторг и от сердца радовалась, если кто-нибудь подробно описывал ей доблести ее рода, а особенно дяди Василия. Достигнув семидесяти лет, она сохранила лицо без единой морщинки и цвела юной красотой, однако не могла унять дрожи в руках, и ее спина согнулась. Царица пренебрегала всякого рода украшениями, не носила ни золотошитых платьев, ни ожерелий, но не одевала и грубых одежд, а прикрывала тело легким одеянием.
CLIX. Царских забот с самодержцем она не разделяла и желала оставаться вдали от подобных занятий; да и из того, что обычно привлекает женщин – я имею в виду ткацкий станок, веретено, шерсть и пряжу, – ничто ее не трогало, и владела царицей только одна страсть, которой она отдавала себя всю: приносить жертвы богу – я говорю сейчас не о словесных мольбах, приношениях и покаяниях, а об ароматических растениях и всем том, что доставляют в наши земли из Индии и Египта.