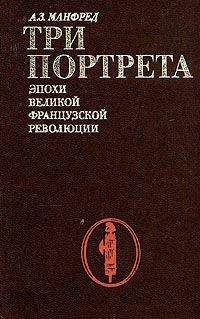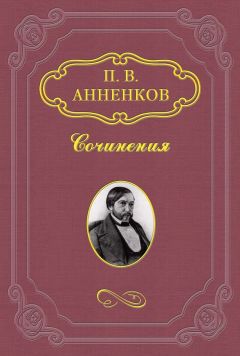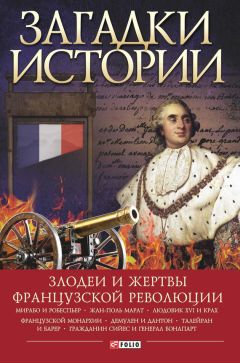Культурные истоки французской революции - Шартье Роже
Таким образом, наказы свидетельствуют о возрождении и укреплении уз, которые, как написано в словарях, связуют почтительный и благодарный народ с королем, пекущимся единственно о благе своих подданных. Жители Севра (Версальский округ) хотели запечатлеть правление Людовика XVI не только в словах, но и в камне: «Мы умоляем Ваше Величество благосклонно принять от народа титул, увековечивающий выдающиеся достоинства величайшего монарха и особо отмечающий его заслуги перед родиной: Отец народа и зиждитель Франции. Мы надеемся, что памятник, призванный обессмертить это важное событие и запечатлеть в сердцах французов и других народов единодушное почтение, которое члены этого собрания питают к своему государю, донесет до потомков этот идеал любви государя к отечеству и к своим подданным».
Традиционный образ короля как заботливого отца, справедливого судьи, заступника, кажется на заре Революции несокрушимым; он тем более прочен, что противопоставляет доброту государя бесчинствам сеньоров. Послушаем жителей Тутри (Бургундия): «Зная, сколь велика благосклонность Вашего Величества к народу и терпя великие притеснения, которые чинят нам каждодневно знать и духовенство, каковые, можно сказать, лишают нас хлеба насущного, обременяя нас непосильными повинностями, мы умоляем Ваше Величество о помощи и просим в годину бедствий обратить на нас милостивый и благожелательный взор». И снова предоставим слово обитателям Лориса: «О великий король! Довершите Ваши преобразования, помогите слабому против сильного, уничтожьте остатки феодального рабства [...]. Сделайте нас совершенно счастливыми; народ ваш, отданный во власть деспотов, припадает к Вашим стопам и жаждет обрести в Вас своего вечного Бога, отца и заступника» {175}. Страсть к обновлению, охватившая Францию весной 1789 года, не только не разрушает королевский миф, но, наоборот, делает его еще более емким и могущественным.
Однако, несмотря на то, что наказы Генеральным Штатам полны пылких изъявлений верноподданнических чувств и любви к государю, король предстает в них не совсем таким, каким изображала его традиция. Правда, эпитет «священный» по-прежнему часто сопровождает его имя, но ослабление изначальной смысловой полноты данного эпитета налицо: с одной стороны, в плане политическом «священным» теперь является не только король — нация, депутаты, права личности также священны, с другой стороны, представление о божественной природе его «священной власти» часто уступает место представлению о том, что эта власть дана ему народом. Во всех сводных наказах бальяжей Генеральным Штатам, как дворянских, так и третьего сословия, особа короля предстает не такой уж священной, несмотря на всю любовь к ней их составителей {176}. Даже тогда, когда наказы превозносят короля как зиждителя нации, образ монархии оказывается уже поколебленным, поврежденным. В пылких речах наказов 1789 года уже сквозит неосознанное разочарование — чары развеялись, и природа королевской власти уже не кажется божественной, что сделало возможным, мыслимым революционное осквернение монархии (глумливые, полные ненависти рисунки с подписями король-пьяница, король-безуллец, король-свинья), а затем и неслыханное деяние — казнь свергнутого государя, уничтожение его физического и политического тела {177}. Чтобы понять этот процесс, необходимо восстановить несколько хронологических цепочек.
«Поносные речи»
Первая, короткая, цепь событий, происшедших в Париже, свидетельствует об увеличении, начиная с середины столетия, выступлений против короля, критикующих как саму его особу, так и его власть. Парижские бунты в мае 1750 года, которые были ответом на аресты детей, произведенные полицейскими властями во исполнение прошлогоднего указа о препровождении в «смирительные дома» «всех нищих и бродяг, которые будут найдены как на улицах Парижа, так и в церквах и на церковных папертях, в пригородах и в окрестных деревнях, какого бы пола и возраста они ни были», являются, быть может, первыми признаками этого явления. У возмущения есть и непосредственный повод: чрезмерное рвение полицейских, которые то ли для того, чтобы угодить начальнику полиции Беррье, то ли для того, чтобы получить выкуп с родителей, хватают не только «людей без роду без племени» и беспризорных детей, но и десятилетних сыновей и дочерей торговцев, ремесленников и рабочих. И хотя гнев парижан обрушивается прежде всего на полицейских, в частности на инспекторов и их помощников, которые появились только в начале века и сразу же подорвали уважение к привычной власти квартальных комиссаров, негодование народа вызывает и сам государь.
«Ходят слухи, что король поражен проказой и купается в крови, как новый Ирод», — записывает д’Аржансон в своем «Дневнике». Молва так объясняет истинную причину вещей: король — апатичное капризное существо, предающееся разврату (таким он предстает в «поносных речах», подслушанных полицейскими шпионами), потому что он прокаженный, и дети исчезают потому, что для его излечения нужна их кровь. Между унылым жестоким королем, который уклоняется от обязанностей, накладываемых на него его саном, и жителями Парижа произошел разрыв. «Да здравствует король без дорожной повинности!», «Да здравствует король без поборов!», «Да здравствует король без соляного налога!» — таковы были лозунги восставших в XVII веке, когда люди считали короля справедливым судьей и хранителем древних обычаев и обращали свой гнев на тех, кто нарушал исконные привилегии и права государя, — на дурных советников, обманывавших и сбивавших с толку короля и обкрадывавших казну {178}. Столетием позже в Париже, где янсенисты уже во весь голос клеймят пороки и нечестие короля, мотив этот исчезает. Теперь в обвиняемого превращается сам государь, именно в его адрес звучат самые страшные угрозы. Так, один «шпик» услышал в кабачке разговоры о том, что «наши рыночные торговки соберутся и всем скопом пойдут на Версаль, чтобы скинуть короля с трона и выцарапать ему глаза, а потом вернутся в Париж и убьют королевского судью по уголовным делам и начальника полиции» {179}.
Покушение на Людовика XV, совершенное Дамьеном 5 января 1757 года, и казнь преступника 28 марта стали последним и самым ярким проявлением карательной мощи абсолютизма. И в то же время они неопровержимо свидетельствовали о том, что король находится в разладе со своим народом. Событие, состоящее из двух этапов — покушения и казни, — вызывает различную реакцию. Газеты, даже те, которые вышли за границей и, следовательно, миновали королевскую цензуру, придерживаются мнения о том, что покушение на короля — событие из ряда вон выходящее и не идет ни в какое сравнение с другими событиями того времени (т.е. с янсенистским кризисом, связанным с отказом в причащении, и конфликтом между королем и Парламентом, большинство советников которого подали в отставку после королевского заседания 13 декабря 1756 г.). Газеты отрицают значение речей Дамьена и хотят изобразить его фанатиком или чудовищем, вдруг ни с того ни с сего решившим убить короля и действовавшим в одиночку. Хотят они и внушить читателям мысль о сложном ритуале, который путем расплаты и искупления восстанавливает связь между монархом и его подданными {180}. Как пишет Мишель Фуко, казнь Дамьена — прежде всего «церемония, призванная укрепить пошатнувшуюся верховную власть» {181}.
Но «поносные речи», так же как и «подстрекательские воззвания», которые полиция срывает со стен, изображают события по-иному. В них говорится, что существовал заговор, сведения о котором решено не разглашать в интересах следствия, и Дамьен был всего лишь исполнителем. Янсенисты не сомневались в том, что заговор организован архиепископом Парижским, иезуитами и советниками Парламента, сохранявшими верность королю. Их противники, наоборот, считали, что нити заговора держат в руках мятежные советники Парламента, связанные с янсенистами. Но больше всего враждебных выпадов против короля можно услышать в уличных разговорах и прочитать на самодельных афишах, расклеенных на стенах домов, — в них его объявляют повинным во всех несчастьях страны и народа и выражают надежду, что его настигнет справедливое возмездие {182}.