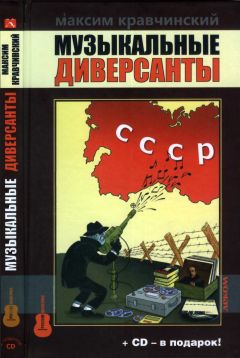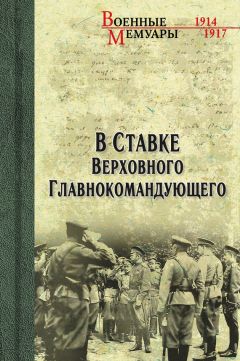Звезды царской эстрады - Кравчинский Максим Эдуардович
– Послушайте, вы! Если на кого-нибудь из вас поступит хоть малейшая жалоба, я сама с ним расправлюсь! Помните это и будьте примерными слугами для тех, кто оплачивает вашу работу!
Челядь моментально притихла и до прихода красных была прямо шелковая…
Кто же эта интересная дама с офицерскими погонами? Она оказалась примадонной опереточной труппы Барковской, еще до нас выступавшей в Ярославле.
Мало того, премьер труппы Зайончковский и артист Юрьевский были главными участниками переворота. Душою же всего был полковник Перхуров, ставший исторической личностью. Благодаря его энергии, отваге и организаторским способностям Ярославль оказал беспримерное сопротивление громадным советским силам, стянутым из Петербурга, Москвы и из других центров.
Ярославская эпопея ждет еще своего летописца. Но и мои беглые впечатления воссоздадут картину исключительную.
Кромешные дни наступили, когда Ярославль, зажатый в кольцо болыпевицких полчищ, подвергся артиллерийскому обстрелу, денно и нощно долбившему по городу. Весь Ярославль был в огне, и, я думаю, пожар Москвы – бледное отражение того, что мы наблюдали в этом приволжском городе русских святынь…
Население дни и ночи проводило в подвалах и погребах. Я этого не делал, не в силу какой-нибудь необычайной храбрости, а потому, что верил в судьбу. Как и куда ни прячься, того, что назначено тебе, – не избежишь. Мой восточный фатализм, моя вера в «кисмет» – читатель сейчас увидит – не лишена основания.
Вначале всё шло вверх дном, а потом притерпелись. Привычка делает обыденным и будничным самое невероятное. Так и мы свыклись с обстрелом, ежеминутной опасностью, свыклись с пожарами, от которых ночью было светло, как в солнечный день. Чтобы отвлечься и развлечься, музицировали в определенные часы; для этого выделили нам отдельный зал с роялем. Пианист садился за рояль, я под его аккомпанемент пел. Однащы в наши определенные часы и Кожухова, и пианист зовут меня:
– Юрий Спиридонович, давайте послушаем вас!
– Нет настроения, – отвечаю я. – До завтра отложим.
Мое ощущение в действительности нельзя было назвать отсутствием настроения. Это было нечто более сложное и неопределенное. Меня куда-то тянуло, мне было как-то беспокойно и волнующе тревожно…
– Пойдемте гулять, – предложил я.
– Гулять? Что вы! Сколько народу так зря на улицах перебито…
– А я все же пойду, – упрямо настаивал я.
– Так и мы с вами, – неожиданно вдруг согласились танцовщица и пианист.
С час мы скитались по городу, вернее, по его развалинам. С отвратительным металлическим визгом проносились над нашими головами снаряды. В этих нестерпимо нарастающих звуках были и тоска, и угроза, и еще что-то, чего не выразишь словами…
А вернувшись в «Бристоль», мы увидели нечто чудовищное: в наше отсутствие тяжелый болыпевицкий снаряд буквально разворотил в щепы зал, где мы только чудом не музицировали сегодня. Вместо рояля – груда обломков. Такую же груду костей и мяса представляли бы и мы, оставайся мы здесь и не вытяни меня на улицу какая-то неведомая сила…
…Жиденькие ряды защитников Ярославля с каждым днем таяли, а у красных и человеческий материал, и всё остальное возрастало в галопирующей прогрессии.
…Тысячи семейств, побросав дома и квартиры, под открытым небом разбили на берегу Волги какой-то исполинский табор цыган. Но это не был табор веселья и удалых песен, – это был табор голода, горя и слез… И вот легендарное сопротивление сломлено. Полковник Перхуров со своим штабом и сотнею бойцов ночью бежал, с непостижимой ловкостью прорвав кольцо большевицких войск, обложивших город… А красные, пока еще ничего не зная, продолжали «крыть» нас снарядами не только полевых орудий, но и огнем нескольких бронепоездов. И только убедившись, что Ярославль упорно не отвечает огнем на огонь, затаившийся, вымерший, только тогда в разрушенный город стали с опаскою и с разведкою вливаться «победители».
Этот авангард состоял из каких-то уже совсем иррегулярных частей: какое-то юное, преступное хулиганье в шинелях!.. Советское командование, взбешенное большими потерями, умышленно бросило это хулиганье в первую очередь, дабы оно показало мятежному населению, где раки зимуют…
И показали!
Бесчинства, насилия, грабежи, убийства на улицах и в домах – все это повергло Ярославль в больший ужас, чем двадцатидвухдневный ливень снарядов.
В первый же день большевики расклеили декрет: в такой-то день, в такой-то час все мужское население должно явиться на вокзал. Ко всем уклонившимся будет применена «высшая мера наказания». В переводе же на их волчий язык – пуля в затылок.
Но даже и эта перспектива не подхлестнула меня пойти на вокзал. И я остался дома. И поэтому только остался в живых…
На вокзале творилось невообразимое, чудовищное. Мужчины с малейшим проблеском внешней интеллигентности сгонялись в одно стадо, а потом над этим стадом учинена была массовая бойня…
Я переждал несколько дней, дал красному зверю упиться вином победы и кровью побежденных и только тогда заявил о своем существовании.
Мне указали:
– Обратитесь к товарищу такому-то. Он всё может…
Товарищ такой-то оказался хамом в кожаной куртке, и хамом довольно мрачного вида.
– Вам чаво?
– Я артист Морфесси.
– Так это ваши артисты сделали бунт? – обрадовалась кожаная куртка. – Так я вас, знаете…
Благодарю покорно, в повстанцы влетел! Я приехал дать два концерта, а вместо этого сам выслушал двадцатидвухдневный концерт. Да такой – умирая не забуду!..
Кожаная куртка расплылась в улыбке. Так улыбается крокодил, но в тот момент я подумал одно: лед сломан! Поверил! Комиссар уже почти благосклонно:
– Стойте, стойте… Чи ж это ваш патрет на усех стенках порасклеенный? – Мой…
– Так чево же вы от мене хочете?
– Хочу пропуска для меня и тех, кто со мною, на выезд из Ярославля. Мы потеряли около месяца и желаем наверстать упущенное несколькими концертами в приволжских городах…
Кожаная куртка не препятствовала нашему выезду. Во всеоружии соответствующих бумаг мы сели на пароход, спустились по Волге, но в силу целого ряда соображений отказались от дальнейших выступлений, и было решено вернуться в Петербург…
Глава XI
ОДЕССА ПОД ФРАНЦУЗСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ. МОЗАИЧНАЯ ВЛАСТЬ. ПАНИКА. ПОЯВЛЕНИЕ КРАСНЫХ. КОМЕНДАНТ ДОМБРОВСКИЙ. МОИ МЫТАРСТВА И ЕДИНСТВЕННОЕ «АГИТАЦИОННОЕ» ВЫСТУПЛЕНИЕ. БОЛЬШЕВИКИ БЕГУТ. ОДЕССА ВНОВЬ БЕЛАЯ. МОЯ ЧАРОЧКА ГЕНЕРАЛУ ДЕНИКИНУ
В самом конце 1918 года Одессу, покинутую австрийским оккупационным корпусом, заняли петлюровцы. Эти полугайдамаки, полузапорожцы с чубами и без чубов имели слабость к еврейским ювелирным магазинам и в две-три недели основательно пограбили черноморскую красавицу.
Но вот Деникин прислал из Новороссийска бригаду генерала Тимановского, высадился французский экспедиционный отряд под командою генерала д’Ансельма, и петлюровцы бежали, прихватив с собою сорок с чем-то добровольческих офицеров. Все они были сначала замучены, а потом расстреляны…
Одесса вздохнула свободней.
Дамы показывались на улицах в бриллиантовых серьгах, не боясь, что корявые лапы вырвут их из ушей с мясом; открывались клубы, не боясь вооруженных налетов. Порядок в городе охранялся патрулями французскими, добровольческими и польскими. Но всё же твердой власти не было. Было какое-то мягкотелое многовластие. Генерал Деникин назначил военным губернатором Одессы генерала Санникова. Молодой колчаковский генерал Гришин-Алмазов сам себя назначил военным губернатором одесской зоны. Французский полковник Фрейденберг считал себя диктатором Одессы и поступал как диктатор. Греки знали свое командование; польская бригада никому не подчинялась, кроме генерала Желеховского. Французский консул Энно делал высшую политику и объединял демократические элементы. Это безвластное многовластие ничего хорошего не сулило. Большевицкие организации до поры до времени сидели в подполье, но подполье их было довольно явное.