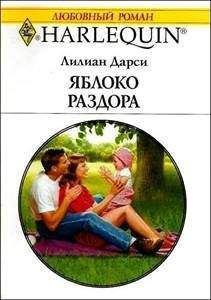Александр Мясников - Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР
Не все клиницисты III ЛМИ могли поместиться в Обуховской больнице. Факультетская терапевтическая клиника, которую я получил, была открыта на базе больницы им. Урицкого – тесной, старой, мало подходящей для занятий со студентами и для организации научной работы. Моими ассистентами оказались Евзеров, Эдвард, Ронинсон, Фишер и др.
Вскоре после открытия клиники явился ко мне и еще один сотрудник – Зиновий Моисеевич Волынский [112] . Тогда это был плохо одетый, не очень чистый, волосатый парень. Он явился прямо из тюрьмы. В тюрьме сидел в связи с ежовскими арестами военных (Ленинградского гарнизона). Он заведовал санаторией для желудочных больных, обслуживавшей гарнизон, и его посадили «за компанию» с другими высокими чинами, держали год, подвергали различным мучительствам, но доктор оказался крепким и не подписал обвинительного акта (он будто бы должен был отравить под видом диеты какую-то определенную группу больных). З. М. Волынский вскоре показал себя исключительно способным сотрудником и в дальнейшем сделался моим верным помощником по клинике вплоть до моего отъезда из Ленинграда в Москву. В настоящее время он заведует кафедрой Военно-медицинской академии. Волынский оказался весьма восприимчивым к научной работе, хорошо улавливал мои мысли в этой области и развивал их. Мне как-то смешно представлять его, пришедшего тогда в залатанном кителе, тощим и бледным, похожим скорее на управхоза, – и сравнивать с теперешним холеным, толстым профессором с богатой квартирой и важной уверенной осанкой.
Доцентом кафедры был сын А. Аф. Нечаева – Александр Александрович. Это был (теперь его уже нет в живых) добродушный и неторопливый доктор. Научные работы его касались практических вопросов, диссертация – о воспалении легких у раненых – оказалась одной из многих монотонных работ на эту тему, послужившей для необходимой «научной» квалификации врачей во время войны. А. А. был человек скромный; наука его не сильно тормошила, он слыл зато «прекрасным диагностом» (я заметил, что клиницисты, не имеющие особого отношения к науке, обычно считаются «хорошими врачами», а клиницисты с талантом научных исследователей обычно считаются «теоретиками», хотя бы они и были одновременно отличными врачами и диагностами; ошибки первых прощаются или забываются, вторых – нет). В дальнейшем А. А. стал профессором кафедры, то есть моим заместителем (эта должность, как показывает мой опыт, не служит единству кафедры, а приводит к «деполяризации» ее, и даже тактичные и ровные «профессора кафедры» не являются хорошими помощниками).
Так как в больнице Урицкого никаких лабораторий у клиники не могло быть (теснота городской старой больницы), научная работа, которую я в Новосибирске насаждал среди сотрудников, не могла особенно развиваться. Впрочем, несколько «печеночных» тем были даны сотрудникам, главным образом, по так называемой функциональной диагностике (то есть те или иные биохимические пробы); данные этих работ послужили дополнительным материалом ко второму изданию «Болезни печени», вышедшему в 1940 году.
Чисто больничный опыт в те годы для меня, может быть, был более важен. Ведь в обычных городских больницах, в гораздо большей мере, чем в специальных клиниках, бывают весьма сложные в диагностическом отношении больные. Я помню больного 32 лет от роду, слесаря, худощавого человека, поступившего в больницу в 6–7 часов утра с резкими болями в груди. Дежурный врач подумал о перфорации язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Больного подвергли рентгеноскопии для выяснения вопроса, нет ли газа в брюшной полости. Газа не оказалось, и диагноз был изменен на острый панкреатит. Больного стали готовить к операции. В 9 часов утра, когда я пришел, он был еще в нашем терапевтическом отделении, боль под ложечкой и в середине груди продолжалась, никаких симптомов перитонита не было. Хирурги настаивали на операции, я медлил с решением. Прошел еще час, я делал обход, в другой палате, и вдруг меня вызвали и сообщили, что больной умер. Какой диагноз? Принимая во внимание внезапную смерть, мы поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», что и подтвердилось на вскрытии.
...Чисто больничный опыт в те годы для меня, может быть, был более важен
Или другой случай. Операционная сестра больницы заболела желтухой, но не захотела ложиться в палату, а продолжала оставаться на ногах. Внезапно у нее развились сильные приступы болей в области печени. Хирург (профессор Теплиц) поставил диагноз – желчнокаменная болезнь. Мы занимались тогда пробой с галактозой, которая оказалась у больной положительной, что говорило за острый гепатит. Больную, однако, оперировали, камней не нашли – острая желтая атрофия печени (больная умерла). После этого случая я с большей осторожностью оцениваю печеночные колики как проявление заболевания желчного пузыря и протоков; как часто в дальнейшем приходилось отмечать их и при тяжелых острых гепатитах! Вместе с тем уважение к лабораторным биохимическим пробам после того случая увеличилось.
Домашние дела шли хорошо. Рос маленький Олег, болел каким-то крупом, задыхался, привозили к нему профессора Тура, Глухова, вводили сыворотку. Потом болел скарлатиной, вводили пенициллин (только что появившийся в Ленинграде, канадский). Все благополучно прошло. Мальчишка все время улыбался, при слове «папа» показывал на лампу, а при слове «лампа» – на папу и т. д. Жена, тогда еще молоденькая (тридцати трех лет), немного ссорилась с моей матерью, и та, как король Лир, то жила у старшего сына, то у Левика (тот женился на докторше, имел двух сыновей, продолжал жить на Петропавловской улице в старой квартире, а у нас была хорошая четырехкомнатная новая квартира на Лесном проспекте. Мне казалось, что обе женщины одинаково правы и не правы, и я ничего не делал, чтобы мирить их (и это было бы еще хуже), а злился на обоих. Но потом наступило затишье.
Летом 1939 года мы жили опять в Сибири – Белокурихе, с нами поехала няня Олега – Сергеевна (когда-то окончившая Институт благородных девиц, старая особа, которая потом жила у нас и в Москве на даче и там умерла). Теперь уж ясно, что это был преданный нам и честный человек; при ее жизни мы иногда ссорились с ней, но Олега она любила так, как только могут любить одинокие культурные и несчастные женщины, не имеющие никакой другой личной жизни. В Белокурихе мы снова встретились с новосибирскими друзьями. Сейчас я могу сказать, что в будущей моей жизни в Ленинграде и в Москве не было столь милых друзей, как в Новосибирске.
Возвращаясь в Ленинград, мы в дороге читали о странных событиях: Риббентроп и Молотов заключают договор. Союз страны социализма с фашистской Германией! Злые, подстрекательские заявления в адрес Франции и Англии («пусть они повоюют, если хотят, – посмотрим, какие они вояки»). Гитлер – наш союзник! Все понимают, что надвигаются страшные события. Гитлер уже оккупировал Чехословакию и Австрию.
...Союз страны социализма с фашистской Германией!
Зима 1939–1940 года ознаменовалась войной с Финляндией. Мы сидели в нашей уютной квартире на Лесном, я рассматривал только что приобретенные в комиссионном магазине на Невском пейзажи Крыжинцкого и Рылова. Недавно у нас побывали из Москвы Савранские, и Леонид Филиппович подарил мне на новоселье этюд Петровичева (с него и пошло начало моей картинной коллекции). Инна включила в 11 часов вечера радиоприемник: и вдруг – о ужас, речь Молотова о нападении на нас Финляндии! Маленькая страна в три миллиона жителей напала на гиганта с 200 миллионами населения! Эта декларация о нападении имеет мало прецедентов по своей явной лжи.
Война неожиданно оказалась крайне тяжелой. Финны сражались как львы, отстреливались в лесах с деревьев; они хорошо укрепили границу на Карельском перешейке (линия Маннергейма), и много пролилось крови наших бойцов, чтобы, наконец, преодолеть финскую оборону. Весь Ленинград был забит ранеными. К тому же стояли лютые морозы, с фронта поступали больные с «отморожением легких» (род крайне тяжелого диффузного бронхиолита). Терапевтическое общество вместе с Горздравом приняло большое участие в организации терапевтической службы в помощь фронту.
Но война не была популярной, и публика злорадствовала: молодцы чухонцы, так нам и надо! Особенно насмехались над откуда-то взявшимся Отто Куусиненом [113] , якобы лидером советской Финляндии, собравшим где-то на клочке захваченной территории «финское правительство». Война с белофиннами была, впрочем, полезной тем, что показала плохую подготовку Красной Армии; как репетиция в новой войне, она имела значение. Финляндию нам так и не удалось сломить; а впрочем, нельзя было вязнуть в этой войне, несправедливость которой уж слишком бросалась в глаза всем.
Летом 1940 года мы жили на даче на старых местах (деревня Пески, Новосиверская). Стояло жаркое лето. Был необыкновенный урожай грибов. К войне, говорили в деревне. Грибы росли даже у заборов, по дорогам. Я по два раза в день тащил из леса огромные корзины белых. Приезжал на этот феноменальный фестиваль грибов Левик. По утрам младший сын смело ступал в прохладные воды Оредежи в пижаме и чистил зубы.