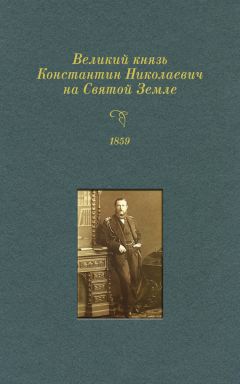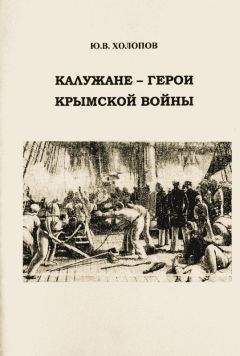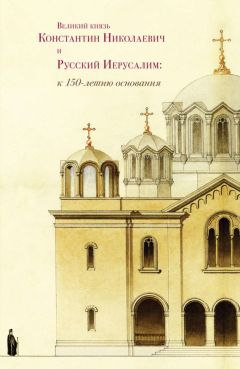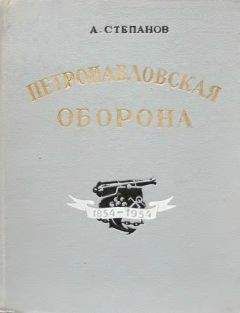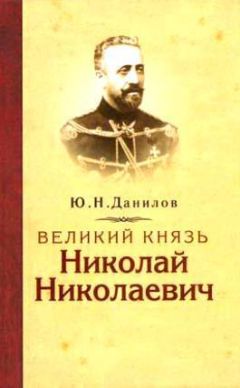Сергей Максимов - Год на севере
На третий день моего приезда в монастырь я был разбужен поутру громкими криками, раздававшимися под окнами нашей гостиницы и по коридорам ее.
— Что там такое? — Спрашиваю я гостинщика.
— Гонят женок-богомолок сельдей чистить. Сейчас приплыл карбас с свежей рыбой. Ужо на уху она пойдет, — объяснял он.
— А уготовляли ли вы себе цельбоносное купание во Святом озере вчера? — Спросил он меня потом.
Я отвечал отрицательно.
— Все богомольцы немедля по прибытии совершают сей обряд во душевное спасение и телёсное здравие. От многих недугов полезна вода, И сколь она холодна и благотворна, то такой уже, говорят, и не обретается в иных местах, кроме честныя обители сия.
— Что же это, батюшка, обязательно для всех?
— Неволи не полагается, но всяк творит по мере сил. Немотствующие не купаются. У нас, по монастырским обычаям, все богомольцы, искупавшись во Святомозере, идут ко гробу преподобных отец Зосимы и Савватия и ходатайствуют у них об умилостивлении Творца Всевышнего. Затем всякий полагает отправиться воздать молитву при гробе преподобного Елеазара в скиту, сооруженном им на острову Анзерском, и оттуда идут на гору Голгофу, где поминают молитвою предшедших отцов и братию в панихиде при гробе преподобного отца Иисуса Голгофского. За сим, на третий день, посещаются все часовни, места коих освятили своими стопами угодники Божии: одну в трех верстах от обители близ Исакиевой горы, где первоначально поселились преподобные Зосима и Герман, и все семь пустынь.
При последних словах его раздался звон в малый колокол.
— Это что такое?
— Кончилась литургия: к трапезе звонят, пожалуйте! В сей день полагаются скоромные кушанья.
Я отправился. Огромная трапеза была полна народу; монахи пели. Между богомольцами не видать было женщин: все они, по монастырскому обычаю, угощаются в особой зале, так называемой келарской. Раздалось чтениё житий святых того дня, производимое с особого амвона чередным монахом. При перемене кушаньев, при звоне колокольчика, читалась с амвона и прислуживающими послушниками молитва: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Трапезующие должны были отвечать «аминь». Всем возбранялись разговоры, все обязаны были есть из общей чашки; у всех были деревянные ложки с вырезною благословляющею рукою. Мне попалась ложка с надписанием:
На трапезе благословенной
Кушать братии почтенной.
У соседа моего на ложке было написано просто «во здравие братии». Вся посуда была оловянная. Кушанье солить или обливать уксусом обязаны были послушники. На этот раз вся трапеза состояла из четырех блюд: холодное — соленые сельди с луком, перцем и уксусом; треска со сметаной и квасом; уха, удивительно вкусная, из сегодня выловленных сельдей; и каша гречневая с коровьим маслом и кислым молоком. В конце трапезы разносились кусочки просфоры, или богородичного хлеба, освященного в конце пением и разрезанного притом же пении и тогда же. Певчие пели потом молитвы и отпуск, и затем все расходились.
Несметное множество чаек усыпало весь двор монастырский, кажется, на это время слетелись они со всего острова и его берегов. Монахи и многие богомольцы бросали им куски хлеба. Чайки до того были безбоязненны, что хватали хлеб этот из рук; многие клевали проходящих за ноги, за полы платья. Крик был невыносимый, и все это, взятое вместе, представляло странную, хотя и своеобразную картину. Некоторые из монахов пошли удить рыбу на озерах, другие — смотреть на море, где в это время разыгрывались знакомые, обыденные сцены: вот чайка учит своего чабара летать; чабар старается делать то же, что и мать: машет крыльями, бежит скоро вперед, но спотыкается, ударяется утиным своим носом в землю, прискакивает, но в воздухе держится недолго: собственная тяжесть не пускает его от земли дальше четверти аршина. За другим чабаром следит мать, и смотрит, как он влез в воду и окунывается, хлопая по воде крыльями и обмачивая голову; чабар на воде держится легко, дальше все прежнее: мальчишки — работники, безбрадые трудники, по словам гостинщика, бродят без дела по берегу, одетые в монастырские подрясники с широкими кожаными поясами и в плисовых круглых колпаках на голове. Мальчишки шалят. Взрослые штатные служители важно толкуют с богомольцами; часы выколачивают половину, чайки кричат, и гул их отдается эхом в стенах монастырских. Кто-то запел: «Воскресение Христово видевше...»
Вернувшись в свой номер, я попросил лошадей, чтобы ехать на Анзерский остров. Потребовали три рубля серебром — и мы отправились. Дорога пошла по Соловецкому острову гладким, исправленным полотном. По сторонам ее потянулся лес со своею обычною обстановкою, невычищенный со множеством неприбранного валежника во многих местах лес этот отдавал решительною дичью. Все в нем напоминало леса наших
Приволжских губерний: те же высокие деревья словно и не полярные, не архангельские, та же спутанность сортов и видов их: тут и березовая полоса, перепутанная с ивняком, тут и сосняк с кустами густого цепкого волжского можжевельника. Сосняк перепутан с ельником, — даже кое-где между ними проглянула лиственница.Между деревьями, по кочкам, иногда мшистым, иногда обтянутым травою, рассыпались кусты ягод вороницы и морошки. Кое-где красовался цветами шиповник; во многих местах зацветала малина и даже краснела уже ягодами. В воздухе разлита была чарующая свежесть, которою дышишь — не надышишься: то вдруг прольется струя целебной смолки, то здоровый запах травы, то вдруг опять пролетит нежная эфирная струйка, пущенная зажившими цветами шиповника. Луга, выглянувшие между - деревьями, усыпаны были цветами и рисовались таким же пестрым ковром, который так обыкновенен везде, кроме архангельского края. Местность Соловецкого острова решительный контраст со всеми соседними ей: природа словно огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние оставшиеся силы, произвела на острове новый, особенный мир, в котором так всем привольно и так все сродни и знакомо дальнему, заезжему человеку. Вот пошла дорога под гору, на мостик, перекинутый через бойкий ручеек: вот побежала она в гору, взрытую по местам колеями, вот канавы, прорытые по сторонам полотна ее и опять та же лесная чаща и между нею болото такое же ржавое, такое же зыбкое, как везде и всюду в России, богатой и горами, и болотами, и роскошными лугами. Прекратился лес, открылась поляна, на поляне посеяна рожь. Рожь уже наливается, налив идет к концу; васильки в полной силе. Вправо от дороги, между редко расставленными деревьями, через поляну, засыпанную хвоей, выглянуло озеро, большое, рыбное, на этот раз светлое, зеркальное. Лесная чаща продолжает по-прежнему окружать нас со всех сторон и дышит своим здоровым, целебным дыханием. В ней запела даже где-то птичка, другая, третья... Весело на душе, летят все черные мысли прочь, забываешь обо всем прежнем и живешь только настоящим. Пусть бы дальше и больше тянулась эта дорога с увлекательными видами и свежестью; пусть никакое тревожное воспоминание не беспокоит теперь воображение. А воспоминаний этих накопилось так много, ими так сильно утомлена и пресыщена душа, что прежний путь по прибрежьям кажется как будто сном, какой-то сказкой, выслушанной еще в детстве, и теперь с трудом припоминаемой.
Ехали мы лесом часа два. За лесом началось поле, на конце которого стоит избушка и в ней живут два монаха-перевозчика. У избушки этой надо было оставить лошадей и садиться в карбас, на котором предстоял путь через салму (пролив) в 4 версты 300 сажен. Ветру никакого не заводилось: привелось ехать на гребле, между тем как быстрина течения здесь поразительна; к тому же на то время вода на том берегу распалась, как выразился наш перевозчик, т. е. пошла на прибыль, начался прилив и обещал нам навстречу сувой, но сувой оказался несильным, и мы, хотя и медленно, но прошли его при помощи только двух весел. По пути нам морем играла белуха у самого карбаса и так близко, что можно было рассмотреть, как опрокидывала она свое огромное сальное тело в воду, выгибая над водой спину и выкидывая на шее фонтаном воду. Провожающие нас монахи говорят, что она удивительно быстро ходит, и если уж одной удалось прорвать невод, так все другие уйдут за ней мгновенно.
— Молоко-то у ней тоже белое! — Заметил монах.
— А где же его видели? — Спросил мой спутник.
— У пропавшей (околевшей, и выброшенной на берег) видели.
Через полтора часа езды мы были уже на берегу Анзерского острова подле часовни, на месте которой, говорят, основатель скита Елеазарий работал в избушке деревянную посуду и потом продавал ее приходившим на Мурман поморам. Приготовленную посуду он, по преданию, выставлял на пристани, а сам удалялся в леса от людей. Приплывавшие поморы брали посуду, а в отплату оставляли хлеб и другие съестные припасы, по силе возможности.